Сергей Салихов:
«Самое важное в работе ученого — это честность»
«Лаборатория научной журналистики» поговорила с доцентом кафедры физического материаловедения НИТУ «МИСиС», кандидатом физико-математических наук, первым проректором НИТУ «МИСиС» Сергеем Салиховым о его пути в науку, работе ученого и научной грамотности.
«Нас учили не отступать»
Когда Вы решили заняться наукой?
Мне кажется, что самое большое влияние оказала учеба в физико-математической школе — интернате №18 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Почему интернат? Потому что в него приезжали учиться одаренные дети со всего СССР. Чтобы поступить туда, нужно было пройти очень суровый отбор. Но это того стоило: нас учили профессора и преподаватели МГУ, они влюбляли нас в науку, создавали невероятную атмосферу научного творчества.
Сейчас эта замечательная школа называется Специализированным учебно-научным центром, и неизменно занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах.
Сейчас эта замечательная школа называется Специализированным учебно-научным центром, и неизменно занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах.
Как правило, определяющим в решении заниматься наукой становится пример ярких вузовский ученых. У Вас было так же?
Я учился в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) на физико-химическом факультете. Тогда это было звездное место в Москве. Там преподавал академик Алексей Абрикосов — он тогда еще не был нобелевским лауреатом, но свою работу, за которую получил Нобелевскую премию, уже сделал. Профессор Андрей Варламов, который впоследствии стал моим хорошим другом. Также Борис Бокштейн и Лев Асламазов. Большинство этих фамилий мне было знакомо по замечательной книжной серии «Библиотечка Квант», куда писали свои статьи для школьников эти удивительные ученые. И тогда, и сейчас в МИСиСе очень много звездных преподавателей, которые во многом определили не только мой путь в науке, но и в жизни . Это очень важно — иметь хороших наставников.
А к кристаллографии Вы как пришли?
Через полное ее непонимание. Когда я закончил курс кристаллографии в университете, у меня остался миллион вопросов. И памятуя о своем интернатском прошлом, о том, как нас учили не отступать, все лето потратил на то, чтобы разобраться, сильно углубился в те аспекты, которые называются математической кристаллографией, теорией групп. Потом вернулся со студенческих каникул, подошел к заведующему кафедрой, профессору Иванову, и нагло заявил: «Александр Николаевич, мне кажется, что Вы неправильно нам кристаллографию преподаете. Надо по-другому». Тот ответил: «Вот подрастешь и будешь преподавать так, как ты хочешь». Я безумно благодарен моему завкафедрой за то, что он не выгнал меня, а предложил стать его ассистентом по этому курсу.
NAUKA 0+
Лекция Сергея Владимировича Салихова «Зима не за горами: как отличить поддельную снежинку»
То есть изначально Вы хотели доказать, что сможете преподавать «правильно»?
Разобраться. Очень важно разобраться самому, а не доказать. Когда ты разбираешься сам — это лучший способ пройти через то, что ты не понимаешь.
Почему именно кристаллография, чем она Вас так привлекла?
Это действительно удивительная наука, которая сочетает в себе глубокую физику и математику наряду с химией. Наверное, нет ничего более математизированного в физике, чем кристаллография. В таких разделах математики, как теория групп, требуется способность осмысливать новые математические концепции. Кристаллография — это всегда новые концепции, начиная от первых работ Федорова в области решетчатой кристаллографии и заканчивая квазикристаллами и переходом к многомерной кристаллографии. Ну и потом, кристаллография — это просто красиво.
Разобраться. Очень важно разобраться самому, а не доказать. Когда ты разбираешься сам — это лучший способ пройти через то, что ты не понимаешь.
Почему именно кристаллография, чем она Вас так привлекла?
Это действительно удивительная наука, которая сочетает в себе глубокую физику и математику наряду с химией. Наверное, нет ничего более математизированного в физике, чем кристаллография. В таких разделах математики, как теория групп, требуется способность осмысливать новые математические концепции. Кристаллография — это всегда новые концепции, начиная от первых работ Федорова в области решетчатой кристаллографии и заканчивая квазикристаллами и переходом к многомерной кристаллографии. Ну и потом, кристаллография — это просто красиво.
«Ранняя диагностика является серьезной задачей»
Изучением чего Вы сейчас занимаетесь?
Лаборатория, в которой я работаю, занимается созданием биологически безопасных контрастных агентов для МРТ, наночастиц для адресной доставки лекарств на основе магнетита.
Как эти агенты будут применяться на практике?
Наши работы направлены на улучшение ранней диагностики опухолей. Магнитно-резонансная томография — это один из способов визуализации внутренних органов. Но есть трудности, например, с визуализацией опухолей. Сейчас часто приходится дважды делать МРТ с разными контрастными агентами для того, чтобы получить структуру онкологических образований. Если удастся создать агент, обладающий двойными магнитными свойствами, то это сократит не только время исследования, но и увеличит точность за счет визуализации. Увы, онкологические заболевания встречаются все чаще и чаще. И, соответственно, ранняя диагностика является серьезной задачей. Важно, чтобы агенты — вещества, которые вводятся в кровь для того, чтобы увеличить чувствительность МРТ — хорошо выводились и не были токсичными. Таким перспективным агентом мог бы быть магнетит, легированный гадолинием (оксид железа, в состав которого введены другие металлы для придания определенных свойств — прим. ред.): он обладает хорошей биологической совместимостью с организмом.
«Неудачи и трудности — способ идти вперед»
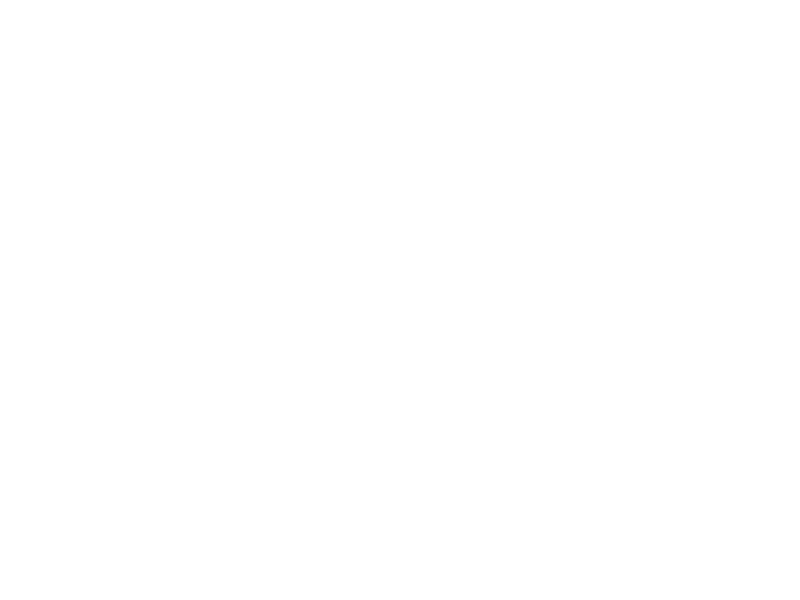
The Innovators:
How a Group of Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution
Что самое важное в работе ученого, что способствует успехам, открытиям?
Самое важное в работе ученого — это честность. Честность к себе, по отношению к своим результатам, к людям, которые тебя окружают, соблюдение стандартов научного исследования. Потому что сейчас, к сожалению, мы во многом отходим от тех стандартов, которые были приняты. Но ведь важно, чтобы результаты, которые ты получил, могли воспроизвести другие люди.
Как быть честным?
Быть честным — это глубокая философская категория. Наверное, не врать, прежде всего, никому, даже себе.
Самое важное в работе ученого — это честность. Честность к себе, по отношению к своим результатам, к людям, которые тебя окружают, соблюдение стандартов научного исследования. Потому что сейчас, к сожалению, мы во многом отходим от тех стандартов, которые были приняты. Но ведь важно, чтобы результаты, которые ты получил, могли воспроизвести другие люди.
Как быть честным?
Быть честным — это глубокая философская категория. Наверное, не врать, прежде всего, никому, даже себе.
Что для Вас является стимулом в работе?
Интерес. Это даже не стимул, а мотивация. Интерес к тому, что ты получаешь что-то новое, то, чего раньше никто не делал до тебя.
Неудачи или трудности могут Вас демотивировать?
Я думаю, что неудачи и трудности никогда не могут быть демотиваторами. Это, наоборот, способ идти вперед. Благодаря неудачам ты лучше знаешь, куда тебе нужно двигаться, а куда тебе не надо идти. Это тоже очень важно.
«Чем образованнее общество, тем быстрее развивается экономика»
На Ваш взгляд, должен ли ученый быть еще и популяризатором науки?
Безусловно, ученые должны этим заниматься. Популяризация науки — это вообще очень важная вещь.
Исторически все выдающиеся ученые всегда были хорошими популяризаторами науки. Конечно, не каждый ученый обязан быть популяризатором, вовсе нет. Но если есть способности к популяризации, то не стоит пренебрегать этим. И, наверное, наоборот: если у тебя нет таких данных, не надо себя заставлять только потому, что сейчас это стало модным.
А кто, кроме ученых, может быть популяризатором науки?
Я лично знаю многих научных журналистов, которые глубоко разбираются в науке и умеют легко о ней рассказать. Здорово, что на факультете журналистики МГУ и в ИТМО появились направления научной журналистики, научной коммуникации. Это показывает большой интерес общества к науке, но в то же время задает высокую планку для популяризаторов науки.
Безусловно, ученые должны этим заниматься. Популяризация науки — это вообще очень важная вещь.
Исторически все выдающиеся ученые всегда были хорошими популяризаторами науки. Конечно, не каждый ученый обязан быть популяризатором, вовсе нет. Но если есть способности к популяризации, то не стоит пренебрегать этим. И, наверное, наоборот: если у тебя нет таких данных, не надо себя заставлять только потому, что сейчас это стало модным.
А кто, кроме ученых, может быть популяризатором науки?
Я лично знаю многих научных журналистов, которые глубоко разбираются в науке и умеют легко о ней рассказать. Здорово, что на факультете журналистики МГУ и в ИТМО появились направления научной журналистики, научной коммуникации. Это показывает большой интерес общества к науке, но в то же время задает высокую планку для популяризаторов науки.
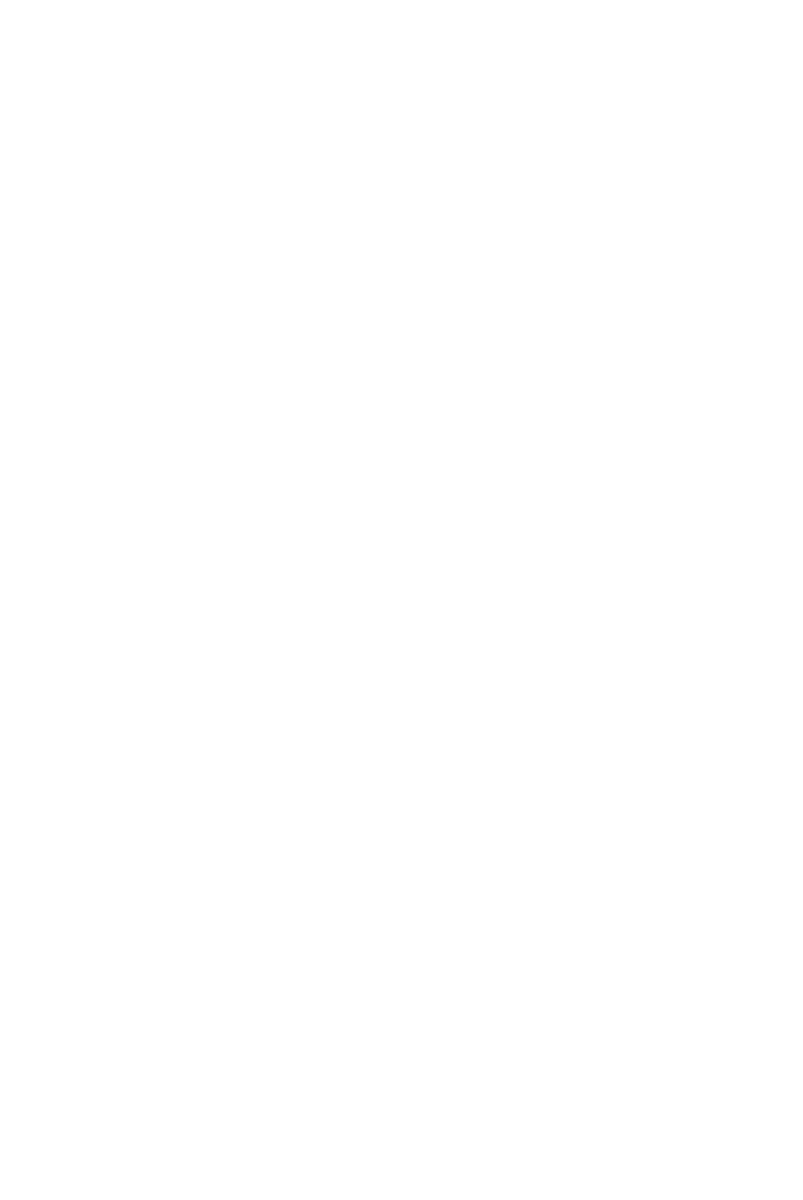
Что еще можно сделать для того, чтобы заинтересовать людей, которые вообще никак не связаны с наукой и не знают, насколько она может быть увлекательной?
А зачем? Я считаю, что насильно никого в рай тащить не нужно.
Дело даже не в насильном привлечении. Люди могут просто не обладать нужной информацией, потому что у них, например, нет путей ее получения.
Так не бывает. Современный мир открыт, по крайней мере, информационно. Но есть другая задача: достичь высокого уровня образования в обществе. Это важнейшая задача, потому что это напрямую влияет на экономику, на здоровье нации. Нужно формировать у людей понимание общего устройства мира, того, что на самом деле влияет на какие-то процессы, а что не влияет. Самый простой пример — отношение в обществе к различным методам лечения. Если вы заболели, не нужно ходить к знахарю и пить гомеопатические средства. Вы тратите много денег, но при этом запускаете свою болезнь. В результате вы наносите ущерб и своему кошельку, и экономике в целом, так как вас придется заново лечить в системе государственной медицины.
Поднимать общий уровень образования — это важная функция популяризации науки, и она действительно приводит к ощутимым, вполне измеримым результатам. Чем образованнее общество, тем быстрее развивается экономика.
Поднимать общий уровень образования — это важная функция популяризации науки, и она действительно приводит к ощутимым, вполне измеримым результатам. Чем образованнее общество, тем быстрее развивается экономика.
Как можно формировать эту образованность, базовые научные знания?
Как раз такие фестивали, как Nauka 0+, вполне с этой задачей справляются. Хорошо бы, чтобы сюда приходили не только те, кто связывает и хочет связать свою жизнь с наукой, но и те, кто хотел бы просто узнать о ней. Важно, чтобы люди были образованными и понимали, что происходит.
Как Вы думаете, государство должно заниматься популяризацией науки?
Конечно, оно и занимается. Год науки и технологий, который сейчас проходит, — это яркий пример участия государства в популяризации науки. Собственно, государство достаточно давно в этот процесс погружено, начиная примерно с 2010-х годов. Очень большие и существенные усилия государства были предприняты для того, чтобы сделать процессы популяризации необратимыми. Были созданы различные СМИ, которые работают в этом направлении. Тот же Фестиваль науки (Nauka 0+ — прим. ред.) стал действительно всероссийским фестивалем, который проводится на многих площадках, во многих регионах. Я считаю, что государство очень много сделало и продолжает делать для популяризации науки. Только так государство будет по-настоящему сильным.
Над интервью работали:
Марина Бенедиктова, Ксения Беркутова
Марина Бенедиктова, Ксения Беркутова

