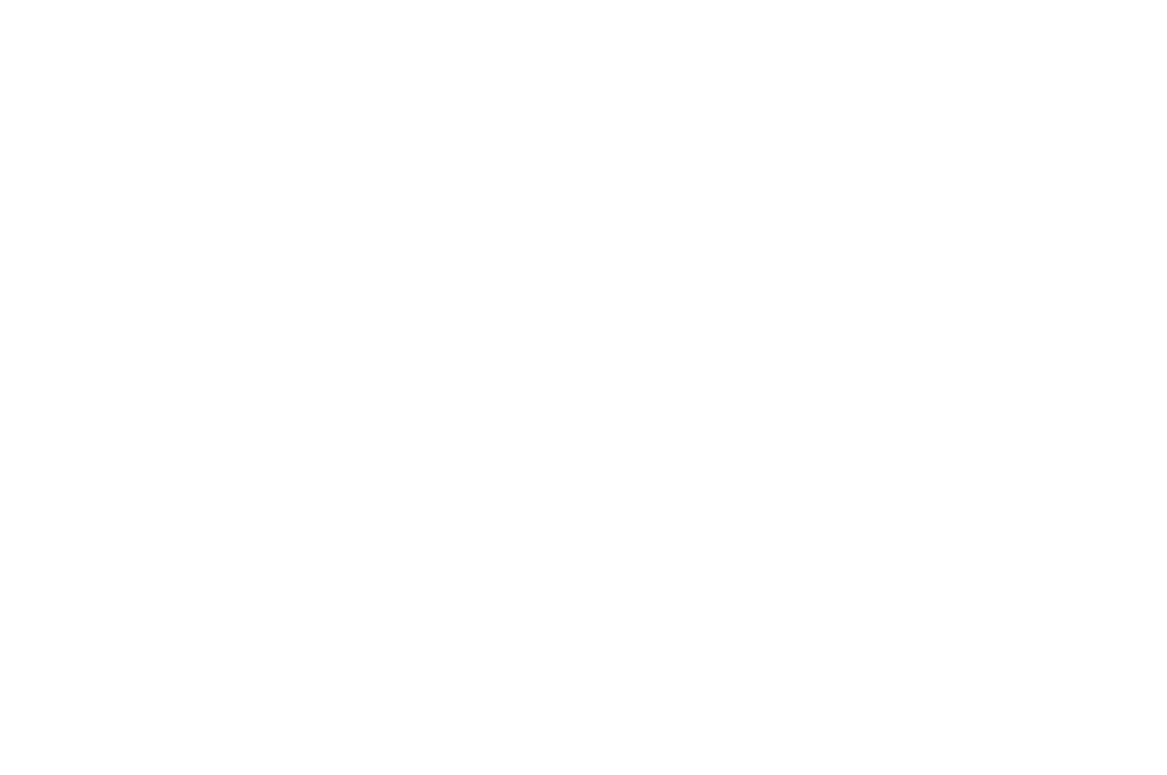- Когда мне было пятнадцать лет и нужно было выбирать, где учиться, в Москве работали всего три журфака. Сейчас в Москве примерно 70 журфаков, но хороших, на мой взгляд, осталось столько же. Тогда можно было поступать только в один вуз. В РУДН я не хотел, в МГИМО мне не понравилась атмосфера, и тут как раз папа узнал, что есть Школа юного журналиста при журфаке МГУ. Я пришёл, сдал экзамен, поступил и твердо решил, что буду учиться на этом факультете. Можно сказать, любовь с первого взгляда. После школы встал вопрос, какое направление выбрать. Тогда существовал отдельный набор на международное отделение, но пройти туда было очень сложно: требовалось собрать очень много бумаг, включая характеристику райкома комсомола, и пройти дополнительное собеседование по международной тематике. Поэтому желающих пройти этот сложный путь было меньше. Я, однако, не изменил своему решению и в итоге успешно поступил, набрав четырнадцать баллов из пятнадцати.
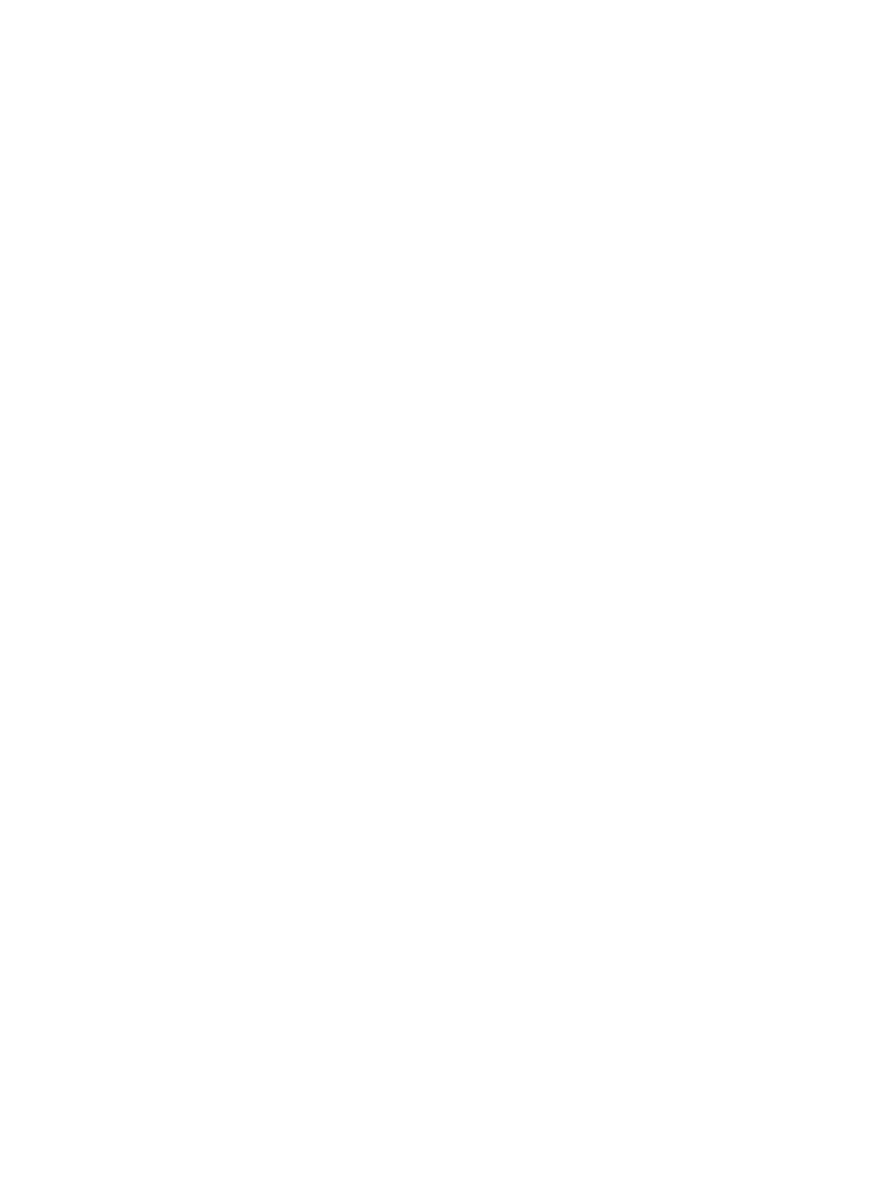
- Мне всегда нравились международные отношения и всё, что с ними связано: я с четвёртого класса проводил политинформации в школе, очень хорошо знал, да и сейчас знаю карту мира со столицами, президентами, партиями. Для меня это просто было интересно. Классе в седьмом я даже выиграл олимпиаду по географии – занял третье место по Москве – и хотел поступать на геофак МГУ. Но вдруг выяснилось, что там нужна математика. Для меня это был шок. Тогда я понял, что географический факультет для меня закрыт. Зато вовремя узнал про наш факультет.
- Когда начался второй семестр, мы с тремя однокурсниками организовали общество любителей древней литературы. Наша цель была просветительская: рассказывать старшеклассникам об античной, древнерусской литературе. Мы пришли к Ясену Николаевичу Засурскому, поделились этой идеей. Он нас похвалил и дал добро. Мы распределились: я ходил по школам, мой однокурсник – по библиотекам. Потом я прочёл несколько лекций по античной литературе в Школе юного журналиста. Летом меня забрали в армию, но и там я продолжал читать лекции сослуживцам. После армии стало сложнее: мозги отвыкли от учёбы, надо было возвращаться в ритм университетской жизни, на что у меня ушёл весь второй курс.
- В моём дипломе написано: «Журналист-международник со знанием испанского и болгарского языков». Я действительно не работал по этой специальности ни одного дня. Но, понимаете, я окончил факультет в 1993 году: тогда старая система, когда распределяли выпускников, исчезла, а нового ничего не придумали. Поэтому каждый сам себе искал направление. И у меня не было таких связей в международной журналистике, чтобы устроиться на работу. К слову, из всех моих одногруппников, кажется, ни один так и не стал журналистом-международником. Кто-то ушёл в бизнес, кто-то в политику, кто-то просто в журналистику, но международников я не помню. Я себе тогда нашёл хорошую работу: мне предложили выпускать газету для ЦК профсоюза медработников. О медицине там писать не требовалось, стояла задача просто развлекать медработников. В аспирантуру я не собирался. Мне было очевидно, что это не моё: склонностей к научной работе я тогда не имел. Если бы не Ясен Николаевич, я бы не пошёл в аспирантуру.
| - Но он Вас убедил? - Понимаете, он всегда все решал на ходу. Он никогда не давил, но просто, как писал Маяковский, «решали походя мелочь дел» (поэма «Владимир Ильич Ленин» - прим. авт.). Однажды я пришёл в учебную часть сдавать зачётку, там оказались начальник моего курса Владимир Вячеславович Славкин и моя инспектор Евгения Константиновна Гурова, а рядом с ними стоял Засурский. Я учился на одни пятёрки, даже не знал, что такое пересдача. А Засурский меня помнил – я ему ещё из армии писал письма. Он меня спрашивает: «Ты идёшь в аспирантуру?». Я говорю: «Нет». Он мне: «Иди-иди». Я пытался убедить его, что у меня нет склонностей, что я работаю, но он твёрдо решил, что мне надо учиться дальше.
|
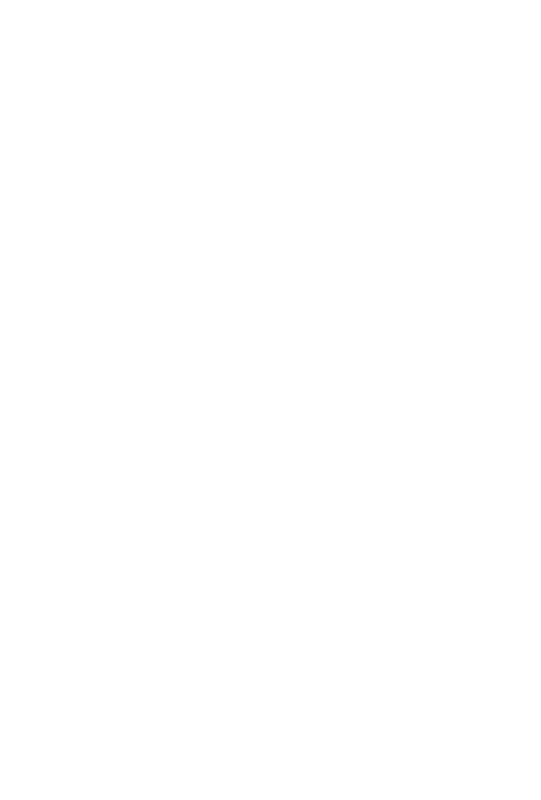
В общем, я решил не писать на кафедре стилистики и обратиться к русской журналистике начала XX века. Тогда у нас преподавали только коммунистическую журналистику, а о другой, некоммунистической журналистике, никто не писал. Я пошёл к человеку, с которым тоже часто советовался и которого уважал, – к Людмиле Евдокимовне Татариновой. Но она мне объяснила: с их кафедрой в годы учёбы я не сотрудничал, меня не возьмут, так как там никто меня не знает как студента. Чтобы идти в аспирантуру, надо выступать на конференциях, что-то писать, хотя бы курсовые работы. А я, как и все, просто сдавал зачёты и экзамены. Оставалась только кафедра зарубежной журналистики (улыбается). Вот здесь уже всё получилось.
- Вы говорили, Вам мама помогала с этим?
- Да, она работала начальником управления международных связей Центросоюза России и помогала мне с языковой практикой и подработкой. Тогда на переводчиков был большой спрос. Я посмотрел мир: был в Латинской Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии. На диссертацию практически не оставалось времени. А тут как раз меня вызывает к себе Засурский! До условленной встречи на факультете я усердно дописывал на даче главу диссертации, потом, приехав к Засурскому, уже готов был отдать ее на проверку, а Ясен Николаевич неожиданно сказал: «Будешь начальником курса». И, как и три года назад, все мои контраргументы оказались тщетны. Тогда же я был назначен старшим преподавателем.
- Каталонией я заинтересовался на четвёртом курсе. Это был 1992 год, пик увлечения иностранцев Россией. Мама взяла меня в Кисловодск, куда приезжала делегация из 67 человек со всей Испании. У них были пасхальные каникулы и им нужно было показать Северный Кавказ. Для этого требовалось пять переводчиков-экскурсоводов, кем меня и оформили. Экскурсии, на мой взгляд – самый простой жанр в переводе. Но на тот момент я не имел опыта работы с такой большой группой. Тем более, мне поручили развлекать детей. Как оказалось, работать с ними гораздо сложнее, чем со взрослыми. Если скажешь что-то не так, взрослый тебя деликатно поправит, а дети просто начинают смеяться, когда, например, неправильно ставишь ударение в слове. Для меня это был хороший стимул повышать уровень владения языком. Тогда же я заметил, что часть этих испанцев говорят не по-испански. Они рассказали, что приехали из Каталонии, объяснили особенности этого региона. И меня это заинтересовало: я экстраполировал отношения России и Украины на отношения Испании и Каталонии. Например, можно сказать, что каталанский язык отличается от испанского так же, как западноукраинский от русского. Я стал интересоваться регионом, читать литературу, а на пятом курсе решил посвятить Каталонии диплом. Тогда меня как раз пригласили к себе каталонцы. Надо было только накопить на билет, который стоил в то время очень дорого. Подработками с переводами я накопил деньги и во время зимних каникул на пятом курсе отправился в Испанию. Из трёх недель, которые я там провёл, две пробыл в Барселоне. Мне подарили русско-каталанский словарь, разные книги по истории региона, языка. Меня возили по редакциям всех газет и очень хорошо там принимали. Даже сами каталонцы удивлялись, как меня принимали: мол, если бы в редакцию пришёл каталонец и попросил бы рассказать о газете, его выставили бы за дверь (смеётся).
- А почему?
- Ну, опять же, это был пик увлечения Россией. Русский, интересующийся Каталонией, вызывал тогда большой интерес. Когда я улетал в Москву, у меня был перевес багажа килограммов двадцать! И в основном это были подаренные каталонцами книги и газеты. Тогда я окончательно убедился, что Каталония – интересно, необычно и требует изучения. На следующий же день после приезда я пришёл на филологический факультет к заведующей кафедрой иберо-романского языкознания и сказал, что хочу изучить каталанский язык. Оказалось, что я обратился с этой просьбой вовремя, потому что как раз тогда открывалась группа по каталанскому языку, куда меня и записали. Целый семестр я его изучал и за это время понял, чем отличается изучение языка на журфаке и на филфаке: у нас его изучают как средство, как инструмент, а там – как цель. Мне это было интересно. В итоге я написал диплом по каталонской журналистике XX века, и после этого меня рекомендовали в аспирантуру, о чём я рассказывал. А с кандидатской диссертацией решил схалтурить: просто расширить свой диплом. Но когда сел за работу, то понял, что мне нужно написать какое-то предисловие, посвящённое XIX веку. Потом понял, что предисловием нельзя ограничиться, и у меня вышла целая глава. В ходе работы я увидел, что журналистика там повлияла на национальное движение, на создание языковых норм, и что одной главой здесь всё не ограничится. В конце концов точку в диссертации поставил как раз на начале XX века, то есть в том самом моменте, с какого начинался мой диплом. Тогда же я перечитал свой диплом и не мог поверить, что мне за него поставили «отлично». «Боже мой, за что?» – подумал я. А недавно, кстати, я заново прочёл свою кандидатскую. Теперь мне не верится, что Ясен Николаевич её пропустил. То есть каждый раз, когда ты поднимаешься на новую ступень, ты понимаешь, что то, что ты писал раньше, уже совершенно не того уровня.
во-вторых, чтобы у вас имелось достаточно доступных материалов, и, в-третьих, чтобы найти хорошего научного руководителя, который вёл бы вас, как Вергилий вёл Данте по аду. С последним пунктом у меня никогда проблем не было, а вот над темой я думал долго. Начал рассматривать Мексику, затем Колумбию, Ясен Николаевич даже предлагал мне встретиться с Маркесом, с которым он дружил и состоял в переписке. Но я отказался – понял, что Маркес у нас хорошо изучен.
В итоге, спустя пятнадцать лет, я вернулся к глубокому изучению Каталонии. Шёл 2017 год, и тут каталонцы сделали мне и всему миру сюрприз: движение за независимость вышло на принципиально новый виток. Когда я только начинал работать над этой темой, Каталония была на периферии, как, например, современная Бельгия. Референдум 2017 года, безусловно, помог мне в моей научной работе: за это время я написал двадцать с лишним статей, подготовил монографию и докторскую диссертацию, которую планирую защитить в наступающем учебном году.
- Ну, многим нравится, а многим и не нравится (смеётся).
- Но всё же часто говорят, что у Вас самые интересные лекции и семинары. Как Вы смогли добиться такого результата?
- Я считаю, что на первом курсе человека надо заинтересовать. Ему нужно показать, что в университете интересно. На старших курсах я по-другому веду занятия: там студент уже понимает, что именно ему нужно. А вообще, у меня нет никаких специальных приёмов или секретов, я просто люблю студентов. Как говорила моя преподаватель испанского Вероника Касимовна Чернышёва, если после занятия у студента остаётся в памяти хотя бы одно новое слово, значит, пара прошла недаром. Вот и я хочу, чтобы мои лекции и семинары не проходили даром, чтобы студенты что-то для себя выносили из них.
О фейках, Холодной войне и будущем международной журналистики
- Конечно. Тут очень важный вопрос о медиаграмотности, о том, что Елена Леонидовна Вартанова постоянно подчёркивает на разных площадках. Пятнадцать, даже десять лет назад такой остроты проблемы не было. А сегодня мы живём в мире фейков. Чем больше у нас развиваются технологии и медиа, тем больше появляется фейковых новостей. Самые уязвимые категории – наверное, дети и старики. Хотя даже мои коллеги иногда становятся жертвами недостоверной информации. Поэтому медиаграмотность сегодня должна стать всеобщей, поэтому в школах создают медиаклассы. И вот что меня поразило, когда я был во Владивостоке: некоторые ребята приехали вместе со своими учителями на медиасаммит из далёких деревень! И не из какой-то элитной школы, а из обычного учебного заведения где-то глубоко в тайге. Тем не менее, у них там есть медиаклассы. Значит, потребность в медиаграмотности есть даже в глухой деревне. Я считаю, что на это надо направить весь современный педагогический аппарат. Задача современного журналиста доносить людям истину сегодня кажется особенно сложной.
- Я бы не стал так драматизировать ситуацию. Конечно, можно понять людей, которые об этом размышляют. Все мы живём сегодняшним днем. Но я всегда советовал смотреть на такие вещи как бы сверху, с позиции историка. Надо просто сравнить наш сегодняшний день с теми периодами, которые были раньше. Например, долгое время шла холодная война, наше общество было абсолютно закрытым, человек жил в некоем информационном аквариуме. Современное же общество, даже несмотря на события последних месяцев, закрытым назвать сложно: у нас есть интернет, есть возможность читать западные медиа. Во времена СССР такое было практически невозможно. Хотя и тогда случались исключения: Ясен Николаевич, например, организовал Общество по изучению американской культуры. И это в 1975 году, в самый разгар информационной войны! Его вызывали в ЦК КПСС, но он объяснил свой поступок тем, что журналист должен знать врага в лицо, и вместо наказания получил орден Трудового Красного знамени. Да и у студентов нашего факультета была возможность читать запрещенную прессу. А если сравнивать ту эпоху с современным периодом, то у нас, конечно, ситуация ещё лучше. И еще хочу обратить внимание: журналистов-международников готовят не для сегодняшнего дня, а для будущего. В восьмидесятые у нас был очень сильный корпус журналистов-международников: Генрих Боровик, Юрий Жуков, Игорь Фесуненко, Всеволод Овчинников, Валентин Зорин и многие другие. Равных им сейчас нет. Сегодня журналистом-международником считается тот, кто живёт где-нибудь в Париже и делает репортажи. А раньше это ведь были аналитики, настоящие учёные, кандидаты и доктора наук. Вот, например, прямо перед нашим разговором ко мне зашла студентка второго курса, взяла у меня почитать книгу Спартака Ивановича Беглова «Четвёртая власть: британская модель» – труды специалистов того поколения остаются актуальными даже в наше время. Так что наша задача – возродить корпус журналистов-международников, которых у нас на факультете готовили с середины семидесятых годов. С этого года мы вновь осуществляем набор на направление обучения «Международная журналистика». Возродить международную журналистику – дело не одного года и даже не одного десятилетия, это наша инвестиция в будущее.
- Понимаете, формально в Болонскую систему мы никогда не входили: единственное, что мы сделали в этом направлении, – ввели вместо специалитета бакалавриат и магистратуру. Но многие опции, которые есть в этой системе, у нас так и не получилось внедрить: например, я хорошо помню, как Ясен Николаевич нам рассказывал, что за каждым студентом будет закреплён индивидуальный преподаватель-тьютор, который будет руководить его индивидуальной образовательной траекторией. Но за десять лет такая опция, к сожалению, не появилась. Я согласен с нашим ректором и считаю, что эти две системы – бакалавриат плюс магистратура, с одной стороны, и специалитет, с другой стороны, – должны сосуществовать. Каждый студент смог бы решить для себя, что ему больше подходит. Единственное, я бы отменил вступительный экзамен в магистратуру – если человек хочет ещё два года учиться, то пусть учится. Это, как мне кажется, было бы демократично и избавляло бы и студентов, и преподавателей от лишней нервотрёпки.
Фото: личный архив Г.В. Прутцкова, Сергей Соколов
"Лаборатория научной журналистики"