Дети войны
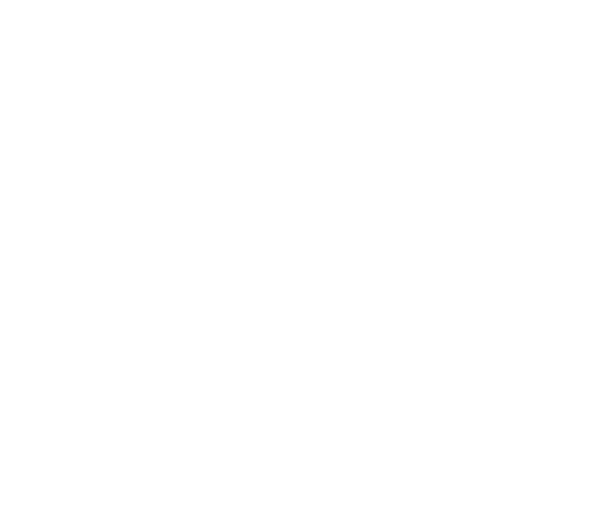
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ РАССКАЗЫВАЮТ О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ
Вместо предисловия
О детях, переживших «сороковые роковые», поэт сказал, что они «родом из войны». А что помнят они из своего детства? Что могут рассказать? Что могли увидеть, понять, запомнить? Многое… Дети войны—это последние свидетели той страшной поры. Их рассказ —это время, которое сжигали, расстреливали. Убивали и бомбой, и пулей, и голодом, и страхом, и безот- цовщиной. К живой памяти тех, кто пережил те трагические дни, обраща- емся мы сегодня. Биографии всех детей войны похожи, как похожи и судьбы моих роди- телей—мальчика с русского Черноземья, оказавшегося с восьми лет в оккупации, и девочки с предгорья Урала, не видевшей фашистов «глаза в глаза». И хотя она была в тылу, а он «под пулями»—все равно это во- енные дети. Дети войны—родители, учителя, старшие коллеги—были и по-прежнему являются нашими наставниками. Это они воспитали два, а то и три поко- ления: направляли, поддерживали в трудные минуты жизни, черпая му- жество, силы не только в пережитом суровом опыте. Им посчастливилось испытать огромный душевный подъем —День Победы. Вспоминаются строки из какой-то детской книжки: «Я бежала с радост- ным криком: «Мама! Война кончилась!» Но мама заплакала в ответ, потому что папа наш не вернется домой, он погиб. Так я поняла, что война в нашей семье осталась навсегда». Наверное, поэтому для нас, людей мирного времени, никогда не насту- пит момент, когда можно будет сказать: достаточно! Мол, история уже рас- ставила точки в этой войне: мы знаем о сражениях, сожженных деревнях, разрушенных городах, о погибших солдатах, о безмерном подвиге защит- ников Отечества. Да, о войне написано немало книг. Но всего сказать не удастся, потому что эстафета живой человеческой памяти не прерывается. Мне война не сохранила даже портрета героического деда, прошагав- шего всю войну в пехоте и погибшего на самой границе—в Бресте. И се- годня, вставая в ряды «Бессмертного полка», я поднимаю портрет своего отца—сына героя. Так дети войны, уже ушедшие и, к счастью, живущие, по-прежнему несут «вахту памяти». Почему это важно мне, моим детям и их ровесникам? Отвечу стихами М. Араловой: «Я никогда не видела войны и ужаса ее не представляю, но то, что мир наш хочет тишины, сегодня очень ясно понимаю».
Елена Зеленина
Елена Зеленина
Вот такая у нас война
Ясен Николаевич Засурский, президент факультета журналистики
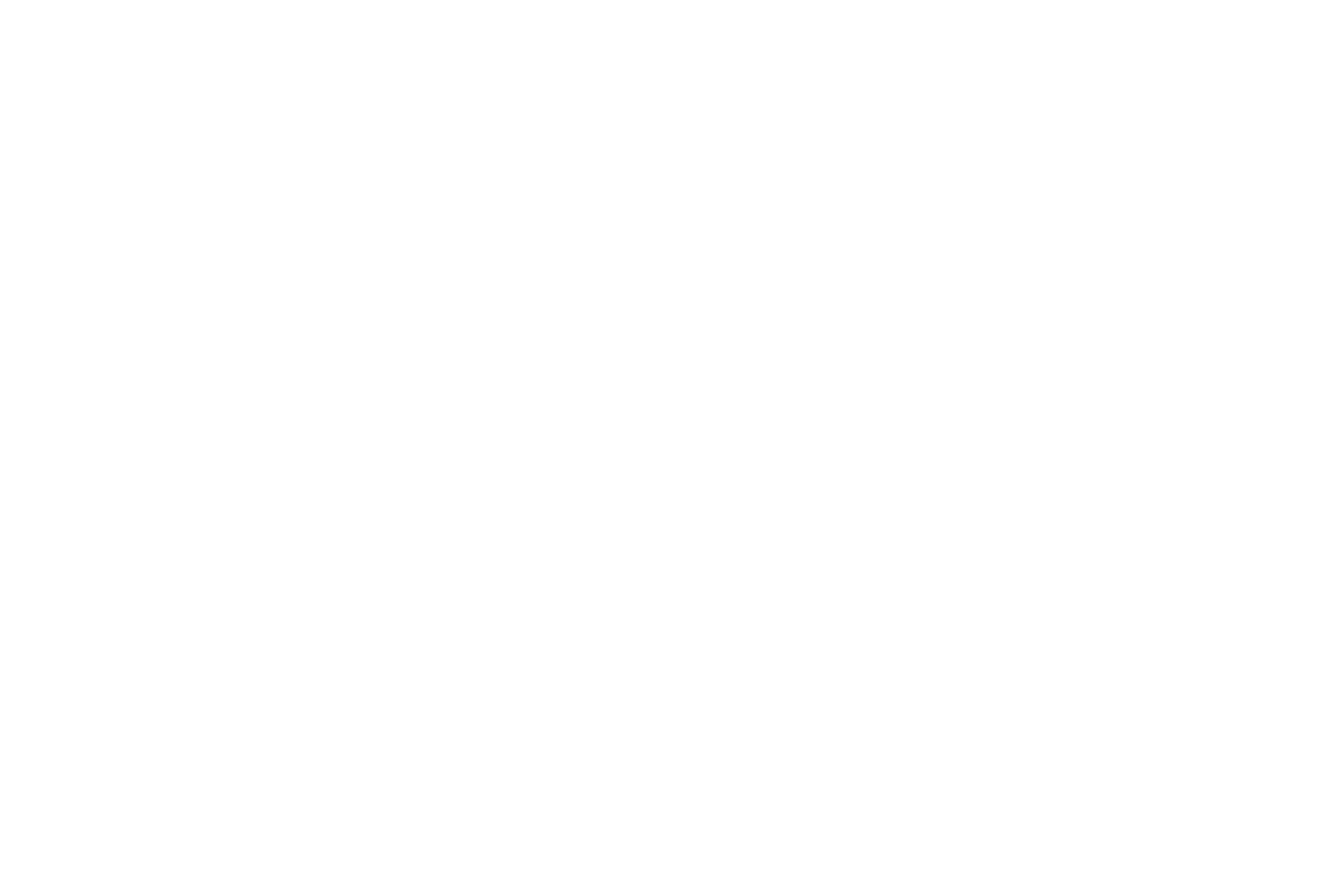
Ясен Николаевич Засурский, президент факультета журналистики
О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
22 июня мы должны были уехать на дачу. Сняли дачу в Здравнице, по Бе- лорусской дороге, недалеко от Жаво- ронков. Утром собрались, но у меня болели уши, поэтому я не мог ехать. Уехал папа с моим маленьким братом, а часов в девять—десять прибегают ре- бята. Стучат в окно и говорят: «Слу- шай, тут на Тверской устанавливают зенитки, война началась». Так мы уз- нали о войне.
О ВОЕННОЙ МОСКВЕ, МАРКО ПОЛО И БОМБАХ
До отъезда я жил около зоопарка. Там, около него, была детская библиотека, я ходил туда читать книги. В Георгиев- ский сквер. Читал Майна Рида, Жюля Верна. Их трудно было купить, а из тех, что продавались, накопив деньги, я купил «Путешествия Марко Поло». Он был первым европейцем, открыв- шим Европу для людей с Востока. Я прихожу в библиотеку утром, чи- таю, а тут тревога. А у меня дома ба- бушка, которая плохо слышит. И я бегу домой через проходной двор, веду ее в бомбоубежище. В нашем районе бомбы падали, но не во двор, а рядом с ним. Это было связано с тем, что мы жили недалеко от Белорусской дороги, а нем- цы бомбили железнодорожные узлы. Поэтому рядом, в переулках, несколь- ко домов было разрушено бомбами. А я должен был бабушку водить, а то пока она дойдет... Ей было лет меньше, чем мне сейчас, но тем не менее. Кроме того, нам объяснили, что мы должны быть готовы к защите от бомб, «от за- жигалок». Для того, чтобы бороться «с зажигалками», у нас был двухэтажный деревянный дом, поставили специаль- ные ящики с песком, а когда бомбы па- дали, их нужно было схватить и поло- жить в песок, тогда они не горели.
ОБ ЭВАКУАЦИИ, ЛОШАДЯХ И ИНФОРМАЦИОННОМ ГОЛОДЕ
Отец уехал в эвакуацию и работал в военных учреждениях. Он специалист по стройматериалам. Мама была вра- чом, ее мобилизовали как врача, по- селили нас в Барнауле. Ей там дали не машину, а лошадь, иноходца. Она садилась на него, вожжами и кнутом подстегивала и ездила принимать роды. Вот такая война была у нас... Там две реки: Обь и Барнаулка, ма- ленькая. Дренаж был через деревянные мостовые, по ним хорошо было ходить летом. Обжигали ноги, жар- ко было, там очень сильное солнце, в Барнауле. Потом отец водил меня в библиотеку барнаульскую. Очень хо- рошая старая библиотека, с хорошим набором книг. Там я читал книги раз- ных полководцев, я мало что пони- мал, но читал. Мы мало знали о том, что происходило. Газеты не регуляр- но приходили, а радио было на базар- ной площади. Там был рупор, и мож- но было слушать новости. По домам поставили рупоры картонные, можно было слушать сообщения с фронта. Это было важно и интересно. Потом какие-то изменения были связаны и с бытом, но не в Барнауле. Барнаул—город богатого сельскохозяй- ственного района, там были ягоды, осо- бенно в первый год: малина, клубника. Хлеб продавался, газета была, «Алтай- ская правда», она и сейчас издается, очень хорошая газета, у нее прекрас- ный редактор.
О ГОСПИТАЛЯХ И ЮНЫХ НОВОБРАНЦАХ
Что еще было? Госпитали были. Школу, в которой мы начали учиться (речь идет о Барнауле—прим. ред), переделали в госпиталь. Признак во- йны. А во дворе сделали призывной пункт. Молодые ребята, в основном восьми- и девятиклассники, уходили на фронт. Но их экипировали очень хорошо, они отличались от других новобранцев. Им выдавали шубы на овчине, белые такие. И отправляли сразу на фронт. Не знаю, сколько их выжило, но много сибиряков погибло. Немножко только их обучили. Нас тоже учили ползать по-пластунски (смеется).
О ДНЕ ПОБЕДЫ И ВОРОНАХ-МО- СКВИЧКАХ В День Победы я был дома. Вечер. Мы легли спать. По радио Левитан сооб- щил о Победе, мы услышали и пошли к Красной площади. Там было огромное количество людей. Подбрасывали кого- то на руках, чаще военных, их уважали. Это было очень впечатляюще. И были салюты, а салюты помогли нам понять, кто живет в Кремле. Вороны! Первые залпы—и туча ворон, напуганных ими, вылетела из Кремля.
Записала Елизавета Смородина
22 июня мы должны были уехать на дачу. Сняли дачу в Здравнице, по Бе- лорусской дороге, недалеко от Жаво- ронков. Утром собрались, но у меня болели уши, поэтому я не мог ехать. Уехал папа с моим маленьким братом, а часов в девять—десять прибегают ре- бята. Стучат в окно и говорят: «Слу- шай, тут на Тверской устанавливают зенитки, война началась». Так мы уз- нали о войне.
О ВОЕННОЙ МОСКВЕ, МАРКО ПОЛО И БОМБАХ
До отъезда я жил около зоопарка. Там, около него, была детская библиотека, я ходил туда читать книги. В Георгиев- ский сквер. Читал Майна Рида, Жюля Верна. Их трудно было купить, а из тех, что продавались, накопив деньги, я купил «Путешествия Марко Поло». Он был первым европейцем, открыв- шим Европу для людей с Востока. Я прихожу в библиотеку утром, чи- таю, а тут тревога. А у меня дома ба- бушка, которая плохо слышит. И я бегу домой через проходной двор, веду ее в бомбоубежище. В нашем районе бомбы падали, но не во двор, а рядом с ним. Это было связано с тем, что мы жили недалеко от Белорусской дороги, а нем- цы бомбили железнодорожные узлы. Поэтому рядом, в переулках, несколь- ко домов было разрушено бомбами. А я должен был бабушку водить, а то пока она дойдет... Ей было лет меньше, чем мне сейчас, но тем не менее. Кроме того, нам объяснили, что мы должны быть готовы к защите от бомб, «от за- жигалок». Для того, чтобы бороться «с зажигалками», у нас был двухэтажный деревянный дом, поставили специаль- ные ящики с песком, а когда бомбы па- дали, их нужно было схватить и поло- жить в песок, тогда они не горели.
ОБ ЭВАКУАЦИИ, ЛОШАДЯХ И ИНФОРМАЦИОННОМ ГОЛОДЕ
Отец уехал в эвакуацию и работал в военных учреждениях. Он специалист по стройматериалам. Мама была вра- чом, ее мобилизовали как врача, по- селили нас в Барнауле. Ей там дали не машину, а лошадь, иноходца. Она садилась на него, вожжами и кнутом подстегивала и ездила принимать роды. Вот такая война была у нас... Там две реки: Обь и Барнаулка, ма- ленькая. Дренаж был через деревянные мостовые, по ним хорошо было ходить летом. Обжигали ноги, жар- ко было, там очень сильное солнце, в Барнауле. Потом отец водил меня в библиотеку барнаульскую. Очень хо- рошая старая библиотека, с хорошим набором книг. Там я читал книги раз- ных полководцев, я мало что пони- мал, но читал. Мы мало знали о том, что происходило. Газеты не регуляр- но приходили, а радио было на базар- ной площади. Там был рупор, и мож- но было слушать новости. По домам поставили рупоры картонные, можно было слушать сообщения с фронта. Это было важно и интересно. Потом какие-то изменения были связаны и с бытом, но не в Барнауле. Барнаул—город богатого сельскохозяй- ственного района, там были ягоды, осо- бенно в первый год: малина, клубника. Хлеб продавался, газета была, «Алтай- ская правда», она и сейчас издается, очень хорошая газета, у нее прекрас- ный редактор.
О ГОСПИТАЛЯХ И ЮНЫХ НОВОБРАНЦАХ
Что еще было? Госпитали были. Школу, в которой мы начали учиться (речь идет о Барнауле—прим. ред), переделали в госпиталь. Признак во- йны. А во дворе сделали призывной пункт. Молодые ребята, в основном восьми- и девятиклассники, уходили на фронт. Но их экипировали очень хорошо, они отличались от других новобранцев. Им выдавали шубы на овчине, белые такие. И отправляли сразу на фронт. Не знаю, сколько их выжило, но много сибиряков погибло. Немножко только их обучили. Нас тоже учили ползать по-пластунски (смеется).
О ДНЕ ПОБЕДЫ И ВОРОНАХ-МО- СКВИЧКАХ В День Победы я был дома. Вечер. Мы легли спать. По радио Левитан сооб- щил о Победе, мы услышали и пошли к Красной площади. Там было огромное количество людей. Подбрасывали кого- то на руках, чаще военных, их уважали. Это было очень впечатляюще. И были салюты, а салюты помогли нам понять, кто живет в Кремле. Вороны! Первые залпы—и туча ворон, напуганных ими, вылетела из Кремля.
Записала Елизавета Смородина
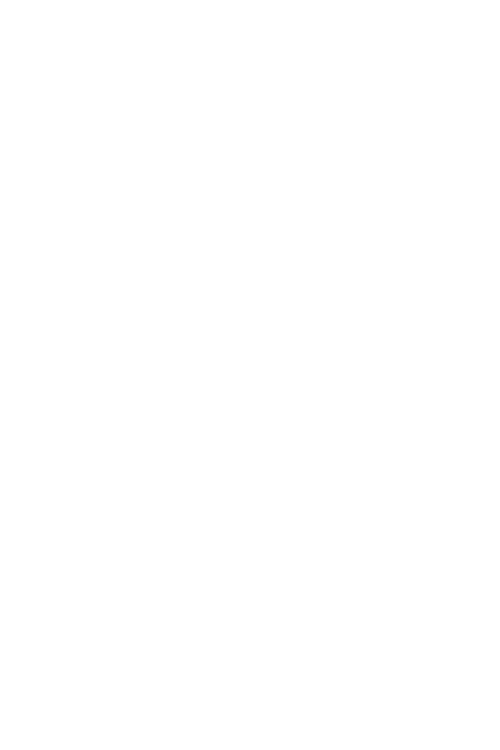
Справляться с бомбами и «зажигалками» мы научились очень быстро
Справляться с бомбами и «зажигалками» мы научились очень быстро
Борис Иванович Есин, профессор кафедры истории русской литературы и журналистики
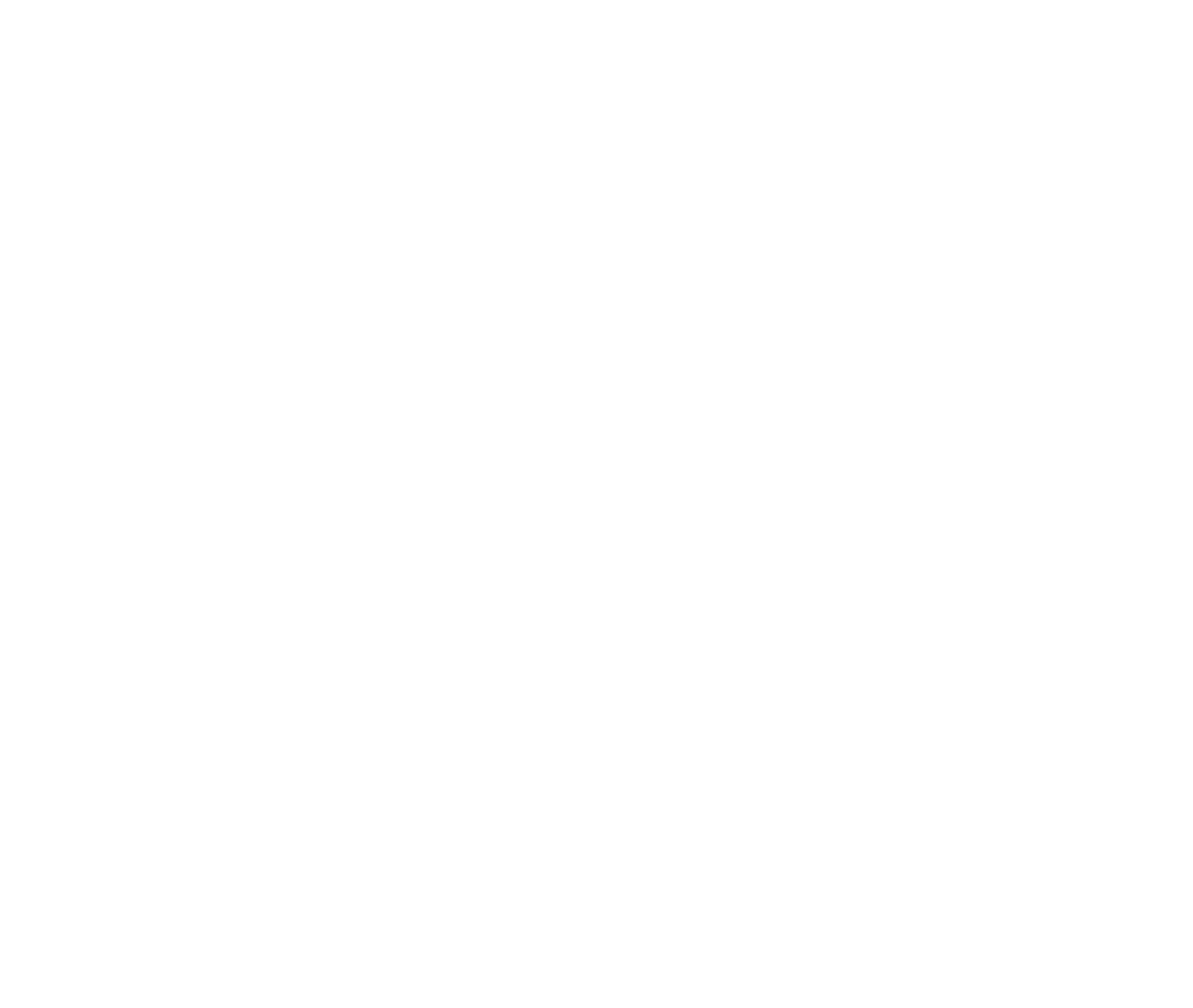
Борис Иванович Есин, профессор кафедры истории русской литературы и журналистики
Самым трудным, но и самым впечатляющим моментом для меня стал период обороны Москвы. Было очень тяжело морально: фашистские войска подошли к городу вплотную. К 15 октября Подмосковье было заполнено немецкими танками. Возникла реальная опасность прорыва. Город основательно готовился к обороне, к уличным боям. Мне, рядовому 73-го ОСБ при коменданте города Москвы, приходилось много чем заниматься. Мы выезжали на ликвидацию вражеских десантов, строили баррикады на Смоленской площади, на Садовом кольце. На Крымском валу сооружали баррика- ды из бревен, засыпая их мешками с песком и оставляя лишь узкий про- ход посередине. Амбразуры в подва- лах делали. А еще мы должны были охранять внешние подступы к Москве. Через Новогиреево, Красный Маяк про- ходила линия обороны, там стояли наши части, готовые дать отпор врагу. 20 октября было объявлено осад- ное положение. А 7 ноября состоял- ся военный парад. Вновь сформированные войска прошли по Красной площади, а оттуда по Ленинградско- му шоссе в Крюково. Это было очень сильной моральной поддержкой для всех. В декабре началось наступление под Москвой, и немцев отбили на 100—150 километров от столицы. Ситуация разрядилась. И под первую бомбежку я по- пал здесь, в Москве. 22 июля немцы впервые бомбили город. Налет был ночью. Я в это время дежурил на крыше. Подлетели мeссершмиты— мы узнали по звуку—и начали сбра- сывать на парашютах осветительные ракеты. Мы сначала даже не поняли, что это такое. Ракеты очень медленно спускались, распространяя вокруг себя желтый свет. Стеклянная крыша Зацепско- го рынка заблестела, и в эту мишень были сброшены зажигалки. Весь ры- нок загорелся сразу—мне хорошо был виден огненный квадрат. Потом началась бомбардировка. Справляться с бомбами и «зажигалками» мы научи- лись очень быстро. Приходилось мне выезжать в раз- ные московские районы тушить по- жары. Поселок неподалеку от завода имени Владимира Ильича фашисты бомбили три или четыре ночи под- ряд, приняв здания за фабричные корпуса. А позже я попал в пехотное училище, потом переквалифицировал- ся на танкиста. Стал командиром взвода в учебном полку, обучал новобранцев. Но все это происходило ближе к концу войны. А вскоре мы встретили День Победы. Так сложи- лась судьба. А сейчас мне чаще вспоминаются не ужасы войны, не потерянные жиз- ни и изломанные судьбы, а патриотический подъем, та дружеская атмосфера, которые царили в армии.
Из сборника, посвященного 65-летию Великой Победы, "Останусь я в первой цепи…"
Из сборника, посвященного 65-летию Великой Победы, "Останусь я в первой цепи…"
А на следующий день ребята эти пошли в бой, из которого мало кто вернулся
Тамара Георгиевна Почтенная, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики
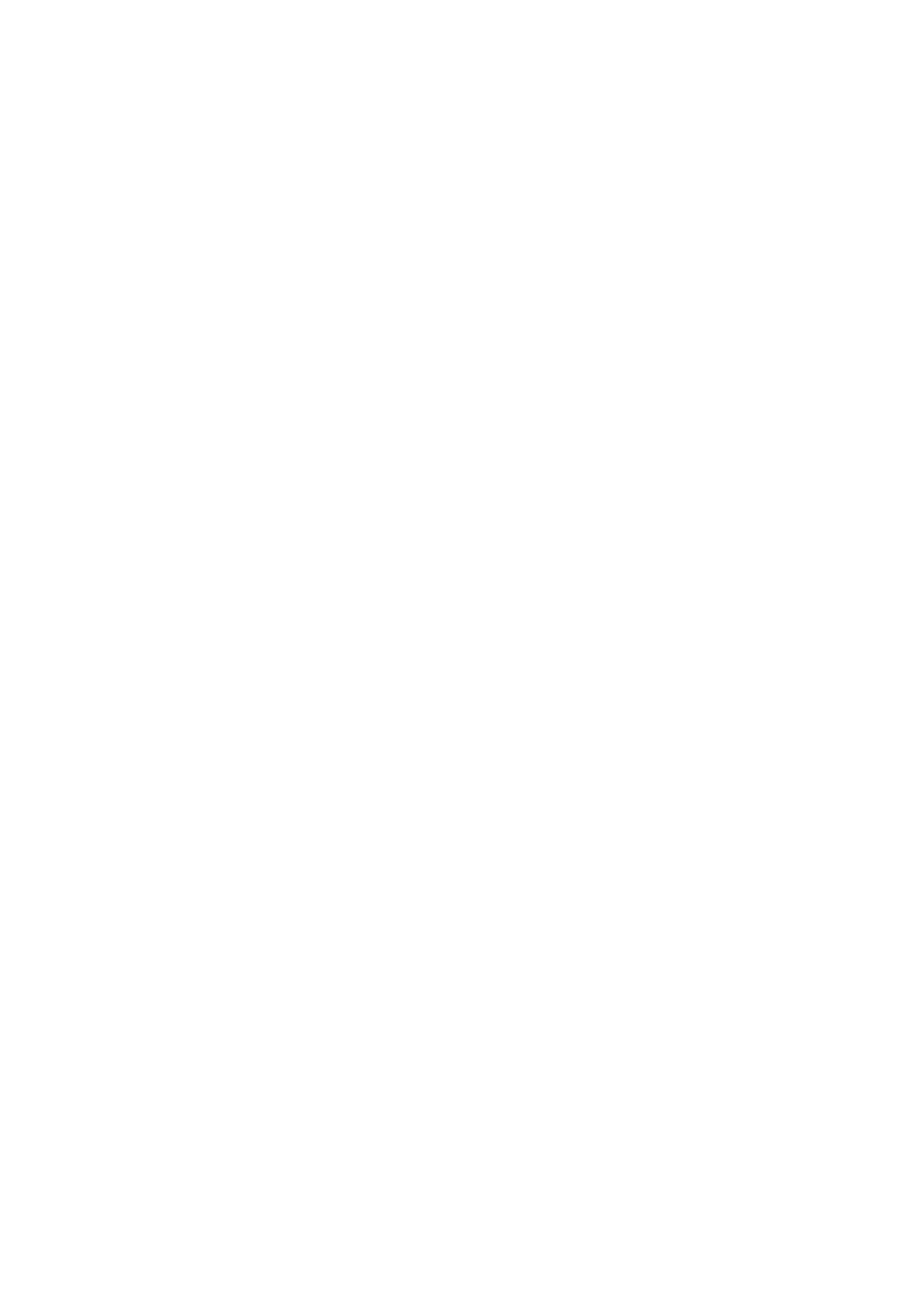
Тамара Георгиевна Почтенная, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики
Я родилась в городе Гжатскe Смоленской области. Именно через наш городок во время войны постоянно и утром, и вече- ром летали немецкие мессеры на Москву, чтобы сбрасывать там бомбы. После войны от города практически ничего не оста- лось, повсюду были развалины, заросшие лопухами... 18 июня 1941 года я окончила школу, но уже 22 июля весь мой класс был мобилизован, а здание школы превратили в госпиталь. Вчерашние школьники, мы не знали, что такое война, нам было сначала весело и интересно. Казалось, что ничего страшного не происходит. Мы готовились не к войне, не к сражениям и смерти, а обсуждали, кто куда собирается пойти учиться дальше. А потом нас увезли. Начало войны для всех было покрыто тайной, мы не знали, куда и зачем надо ехать. Нам сказали: «Вы нужны фронту»—и все. Родителям запретили нас провожать, даже документы не разрешили взять с собой. Отправили нас сначала в смоленские леса. Жить приходилось в шалашах, спать под елками. И постоянно дежурить, ходить на разведку и за едой, узнавать, где немцы. Иногда, когда враги подходили особенно близко, пили воду из болота. Уставали так, что уже ничего не чувствовали. Мы сразу же попали в самое месиво. Немцы стремительно продвигались по Минскому шоссе, как будто специально для них построенному незадолго до войны. Напряженность чувствовалась во всем. Помню, как накануне моей первой встречи с фашистами в Смоленских лесах все ходили хмурые, друг с другом не разговаривали, только показывали пальцами кольцо. Я тогда совсем не понимала этого странного знака. Только потом кто- то из старших объяснит, что мы попали в немецкое окружение. Рано утром мы увидели, что немцы, чтобы отрезать нам пути отступления, подожгли вокруг лес. Больше всего я бoялась плена и молила Бога, что- бы не ранило. Из моих одноклассников практически никого не осталось: из двух больших классов уцелели человек пять-шесть: кто-то по- пал в плен и чудом уцелел, кто-то оказался в Германии, но большинства не стало. Одна девочка, Лида Петрова, приезжала уже после войны из Германии. По ее поведению, обращению с нами, характеру было видно, что она стала другой, не такой, как мы,— «не нашей». О своих родных я тоже почти ничего не знала. Тети, как и другие жители Гжатска, были отправлены взявшими город фашистами в Германию «помогать немецкому народу». Но почему-то их высадили в Польше. Потом в 44-м году мне на фронт пришло письмо, из которого я узнала, что мама и тети живы и находятся в Барановичах. Я, конечно же, попросила увольнительную и на попутных машинах поехала к маме. Увидев меня, она сначала вообще ничего сказать не могла—им сообщали, что, скорее всего, я погибла. С братом моим мне на войне тоже до- велось увидеться. Но одна долгожданная встреча на фронте так и не состоялась— встреча с мальчиком, моей первой любо- вью. Дружили мы еще в Гжатске. Во время войны мне пришел «треугольничек», письмо без конверта—привет от него. Оказалось, мы были совсем рядом. Но на следующее утро, когда я уже было приготовилась брать yвольнительную, пришел приказ идти в наступление. На войне нельзя было знать, что с тобой произойдет завтра. Помню, когда мы стояли в одной деревне, там рядышком расположился артиллерийский отряд. Молодые ребята. Веселые и талантливые: кто танцевал, кто пел, кто вы- бивал чечетку, и мы с ними устроили концерт для всей деревни. Я в паре пела «Мой миленький дружок». Хорошо так было, беззаботно. Мы совсем забыли, что рядом идет война... А на следующий день ребята эти пошли в бой, из которого мало кто вернулся. Из-за того, что были ожесточенные бои и страшные потери, в армии происходили постоянные передислокации. Так и получилось, что я сначала шла с 19-й армией до Москвы, потом с 48-й и 49-й. Закончилась для меня война в Восточной Пруссии в городе Эльминге. Хорошо помню День Победы. Он был светлым, таким же солнечным, таким же безмятежным, зеленым, как и первый день войны. Но ничто не радовало. Царило напряженное ожидание, все молчали, боясь произнести вслух слово, которого так долго ждали. И вдруг в середине дня увидели, что кто-то бежит и кричит: «Победа! Победа!». Описать это состояние счастья невозможно. Сначала все словно опешили и стояли не шевелясь. Ну а потом уж были и возбужденное ликование, и музыка, и праздничный стол. После войны у меня было несколько командировок в Германию, в ГДР, куда мы отправлялись, чтобы учить немцев русскому языку. Я ездила туда с удовольствием и гордостью за Советский Союз. Ненависти к немецкому народу я никогда не испытывала, понимала, что все люди виноваты в том, что произошло. Я не могу забыть лица немецких детей, которые во время войны бежали за нашим грузовиком и просили хлеба. У меня с со- бой ничего не было, а наши солдаты стали копаться в вещмешках и доставать оттуда съестное. Война приносит беду, несчастье, страдания в первую очередь самым незащищенным. Война—это ужасно, и память об этом должна остаться. Прекрасно, что состоится, как в 1945-м, парад в честь Победы. Он нужен нам. А еще более—молодежи. И пусть его увидят те, кто за пределами России утверждает, что не мы победили, не мы защищали их жизни. Из сборника, посвященного 65-летию Великой Победы , "Останусь я в первой цепи…"
Я до сих пор помню отвратительный вкус картошки, жаренной на рыбьем жире
Наталия Сергеевна Лопухина, старший преподаватель кафедры стилистики русского языка
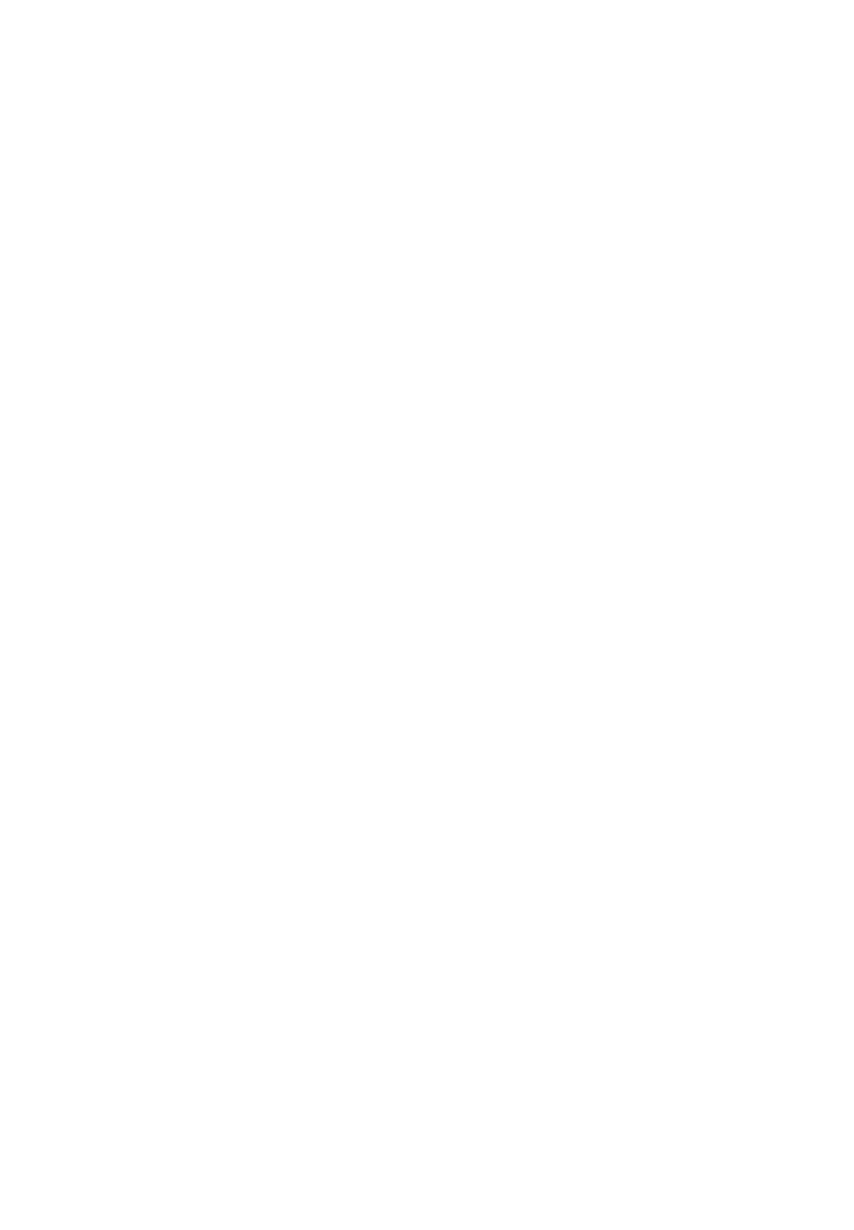
Сказать, что мое детство было трудным,—значит не сказать ничего. И военное, и послевоенное время было холодным и голодным. По моим детским воспоминаниям, самыми страшными были голод и бомбежки. Самой тревожной была мысль: а вдруг с мамой что-то случится? Когда началась война, мне было три года. Я жила с мамой в Москве, а мой отец, Лопухин Сергей Дмитриевич, был репрессирован в 1939 году… Самое начало войны я помню из рассказов мамы. Жили мы на Большой Серпуховской улице и во время бомбежек прятались в том же доме, в бомбоубежище. В один из дней взрывной волной в нашей шестиэтажке выбило практически все стекла. Была зима. Мы с мамой вынуждены были переехать к тете на Арбат. Живя на Арбате, мы спасались от бомбежек в метро на станции Маяковская. Сложилось так, что многие мои родственники связали свою жизнь с медициной, что сделала в юности и я. В течение 5 лет я работала медсестрой в поликлинике МГУ, а уже потом поступила на филфак МГУ. Родной брат отца, мой дядя Лопухин Николай Дмитриевич, работал на передо- вой полевым хирургом. Брат мамы, Голованов Владимир Дмитриевич, нейрохирург, работал во время войны в госпитале, оперировал раненых. Моя мама, Шумова Анна Всеволодовна, фельдшер по профессии, во время войны работала медицинской сестрой. Иногда она сутками не выходила из операционной, помогала врачам-хирургам. Она буквально выхаживала тяжело раненных. Часто после своего полного восстановления солдаты просили медсестер фотографироваться с ними. Чтобы запомнить на- всегда, кто помог им снова встать на ноги. У меня сохранилось несколько фотографий. Надо учесть, что в то время у меня уже не было отца. Маме приходилось работать на две ставки, чтобы обеспечить себя и меня. Пока мама работала, я сидела у соседей, которые были свободны. В то время люди были более дружные, более сплоченные. Это не парадокс, как может показаться со- временной молодежи. Общая беда сплачивает людей. Питались, конечно, мы плохо: во-первых, не хватало денег, во-вторых, были перебои с продуктами. Я до сих пор помню отвратительный вкус картошки, жаренной на рыбьем жире. Иногда мне доставался сахар, который отдавали маме те самые раненые, зная, что у нее есть маленькая дочка. Порой память сохраняет лишь отдельные картинки. Помню, как уже в конце войны стояли в огромных очередях за хлебом. Пом- ню даже улицу Полянку! И как совершенно незнакомая мне женщина привела к себе до- мой, чтобы я погрелась. Конец войны я помню довольно хорошо. Самым счастливым событием был День Победы. В ту ночь, с 8 на 9 мая, ни- кто не спал. Все ждали объявления Юрия Левитана. Мама, как обычно, была на дежурстве. А я, как всегда, была у соседей. Очень хорошо помню объявление по радио об окончании войны. Примерно в полови- не четвертого утра на улице послышались счастливые крики людей. Мы прильнули к окнам. Эта картина незабываема: незнакомые люди обнимались, некоторые плакали. Потом на улице кто-то заиграл на баяне! Да, это был самый счастливый день! В школу я пошла в 1945 году, в первый год Победы. Записала Валерия Елсукова
Барьер, который в одночасье разделил жизнь на «до» и «после»
Инна Кирилловна Кременская, доцент кафедры истории русской литературы и журналистики
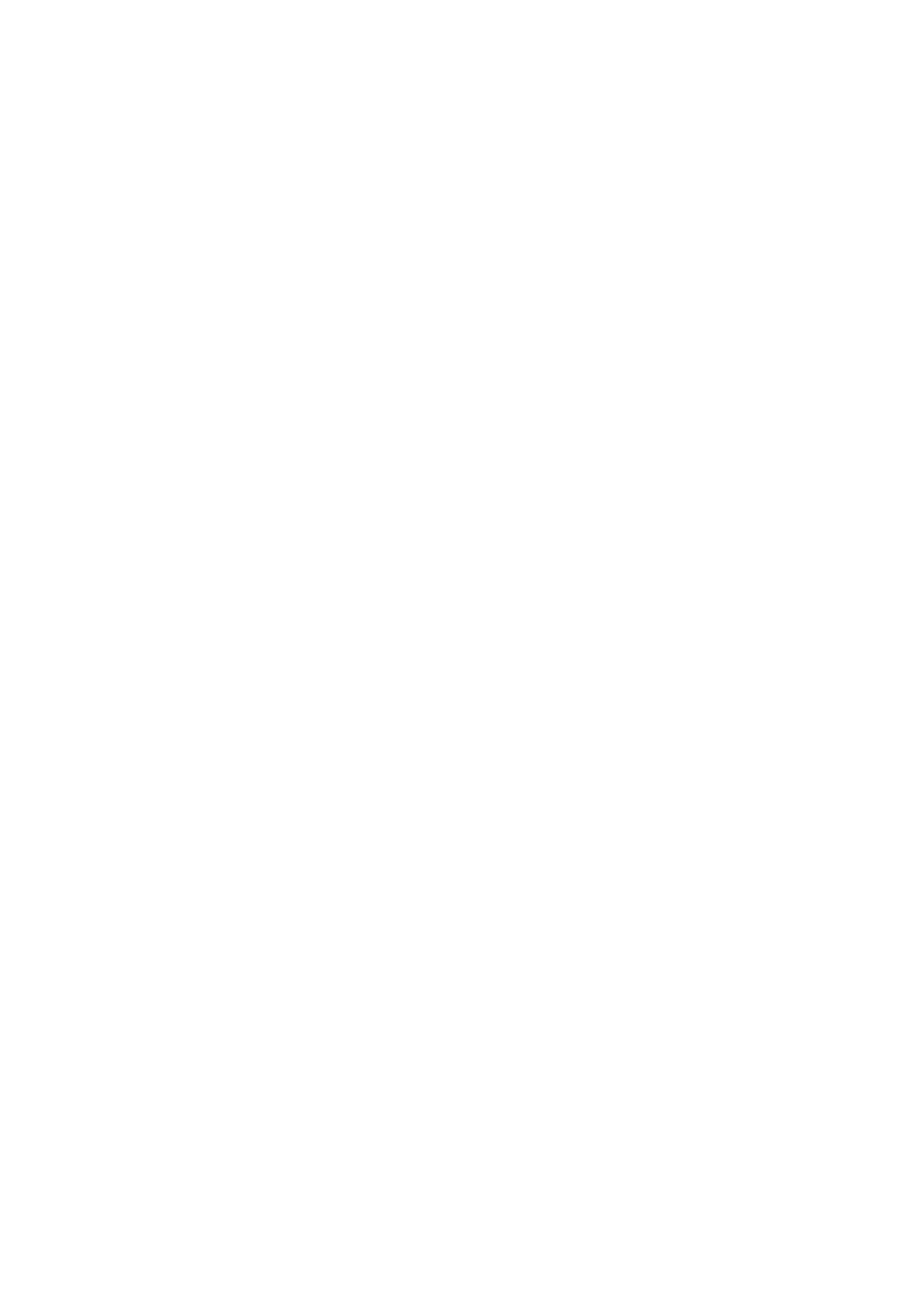
Кирилл Васильевич Кременский, отец
Отца провожали на фронт 24 июля. Пом- ню, как сразу осунувшаяся мама наспех собирала вещмешок, как шли к Киевскому вокзалу, откуда отправлялся эшелон. Прощаться пришлось издалека: вокзал был обнесен массивным забором-решеткой, перекрывая доступ на платформу заплаканным женщинам и перепуганным детям. Я старалась не потерять папу из вида, но он, маленького роста, быстро смешался с толпой таких же, как он сам, стриженых, с вещмешком на плече мужчин. За мою жизнь мне не раз приходилось бывать на Киевском вокзале. Но каждый раз я чувствовала, как к горлу подкатывает комок. Образ этих ворот как рубец на сердце. Как барьер, который в одночасье разделил жизнь на «до» и «после». А 16 октября в Москве началась паника: фашистские войска подошли очень близко к столице. Страх гнал москвичей прочь из го- рода. Людская река с баулами и чемоданами тянулась с запада на восток—туда, где безопаснее. А навстречу ей—с востока на запад— тоже шло движение. Молоденькие девочки в военной форме вели «под уздцы» аэростаты—защищать московское небо от вражеской авиации. Тогда же удалось уехать и нам с мамой. Было получено разрешение занять место в вагоне товарного поезда, идущего до Ульяновска. Там и ехали 24 дня в компании с двумя коровами и толпой таких же, как мы, счастливчиков. Дальше нам предстояло добираться до села Новодевичье. Путь туда лежал только по воде, на пароходе. С этим пароходом вообще произошла удивительная история. Когда мы прибыли в Ульяновск, узнали, что последний пароход уже ушел, Волга стала покрываться льдом и рейсов больше не будет. И вдруг, откуда ни возьмись, еще один, «заблудившийся», транспорт. На нем и уплыли. Новодевичье встретило нас неласково. Строгая, если не сказать суровая, хозяйка Татьяна Васильевна, председатель местного сельсовета, выделила нам с мамой продуваемую всеми ветрами пристройку. А морозы лютые стояли. Утром просыпаешься и видишь мохнатые от инея оконные рамы. Даже от воспоминаний становится зябко. Я училась в четвертом классе, мама учительствовала в местной школе. Так и жили. Здесь было немало москвичей. С Олечкой Федоровой мы крепко подружились и часто встречались, вернувшись в Москву. А местные ребята к нам относились нейтрально. Мы не были для них «понаехавшими», но не ста- ли и родными. Помню, меня очень удивила стайка ребят, человек семь, не похожих на всех остальных. Оказалось, они по национальности немцы, их семьи были переселены сюда из города Энгельса. Вскоре они пропали, говорили, что их отправили дальше, в Казахстан. В феврале 1943 года маме, Марии Иванов- не Страховой, пришло распоряжение вернуться в Москву: автору учебника для глухонемых детей необходимо было готовить его к пере- изданию. Я не могу об этом говорить без восхищения. Еще не отгремели бои, еще не про- шло и месяца после переломившей ход войны победы под Сталинградом, а страна уже думала о будущем. Нашла ресурсы, чтобы по- заботиться о детях с физическими недугами. Путь назад был трудным, но радостным. Домой! Добрые люди помогали на каждом шагу. От Новодевичьего до Сызрани докатили на санях. В поезде, куда удалось втиснуться разве что в тамбур, нашли и вернули забытую мамой сумку со всеми документами, в том числе и с разрешением на въезд в Москву. Так закончилась эвакуация. Жить в столице уже не было страшно, но было голодно. Потерять продуктовые карточки означало остаться на неделю без хлеба. Вспоминаю свой ужас, когда со мной такое случалось,—мурашки по коже. Это незабываемо. Низкий поклон—и тогда, и сейчас— семье генерала Семена Лаврентьевича Спиридонова, которая делилась с нами своим пайком. Фронт уходил все дальше на Запад, жизнь налаживалась. Отца перевели в Москву. Вот он, на фотографии—полковник Кирилл Васильевич Кременский. Один из воинов Бес- смертного полка, чьей доблестью ковалась Победа. И мы, свидетели того лихолетья, верим: пока Бессмертный полк шагает по нашим городам и селам, Россию не покорить!
Я залез на печку, задремал, в это время вдруг все прибегают, кричат «Ура! Победа!»
Станислав Илларионович Галкин, доцент кафедры фотожурналистики и технологий СМИ
Когда я учился в первом классе, со мной за партой сидела девочка, которая всю блокаду провела в Петербурге. Она ассоциируется у меня с героиней «Детей подземелья»: такая бледная, худая, почти прозрачная. Я был в Заволжье, мы суп из хвоща варили, который собирали сами. Казалось, была вкуснятина—невероятная. Время было и голодное, и холодное, родителей не видели почти. Моя мама была врачом, ее две сестры были на фронте, одну наградили орденом Красной звезды. Мой двоюродный дядя получил два ордена Суворова, а это полководческие ордена—он был майором-артиллеристом, дошел до Сталинграда, форсировал Днепр. Мой родной дядя погиб 4 апреля 1945 года, когда разминировал оборонительный пояс вокруг Берлина. Еще один— был летчиком, но он всегда молчал о своем участии в войне. Знаю, что учился с Василием Сталиным, Сталин был на курс младше, но войну закончил генералом, а мой дядя—старшим лейтинантом, хотя успел побыть майором. Фронтовики вооб- ще не очень любят о войне вспоминать, я слышал это, когда они начили вспоминать. Мой отец, который еще в Гражданскую воевал, и дядя рассказывали каждый о своей войне—так я узнавал эти истории. С 8 на 9 мая 1945 года, помню, холодина стояла жуткая, чуть не снег шел. Я залез на печку, задремал, в это время вдруг все прибегают, кричат «Ура! Победа!». Записали Анна Гариева, Кристина Касимова, Александр Куделя
Слово «война» в детском восприятии ассоциировалось с бомбоубежищем
Валентина Михайловна Шестова, доцент кафедры стилистики русского языка
20 июня 1941 года был теплый солнечный день. Папа меня (шестилетнюю) с сестрой Люсей, которая старше на 5 лет, привез на лето к своим родителям в Орловскую область. В их огороде цвели подсолнухи, поспела малина, дедушка качал мед. А мы с лукошками, наполненными сочными ягодами, стояли около бочки и ложками поливали ягоды янтарным медом. В саду пели птицы; казалось, ничто не предвещало беды... На следующий день рано утром папа, взволнованный, ворвался в дом, буквально схватил нас в охапку—через полчаса мы были уже на вокзале. Подошел поезд, какой- то странный: вместо окон были подушки. Состав шел быстро, без остановки. Были слышны глухие взрывы. Наконец, 22 июня, мы дома—в Москве… По радио сообщается о нападении Германии на Советский Союз. Слово «война» в детском восприятии ассоциировалось с бомбоубежищем, которое защищало от чудовища, наступающего на нас (до сих пор вздрагиваю от грохота петард). 25 июня на Орел был совершен первый на- лет вражеской авиации. 3 октября город за- хвачен немцами. Так папа спас нас от фашистской оккупации… Папа неоднократно просился на фронт— не взяли из-за серьезной болезни ног. Военный завод, на котором он работал, эвакуировали зимой под Куйбышев. Этот город в годы Великой Отечественной войны практически превратился в «индустриальную столицу» СССР. Бесперебойное снабжение фронта всем необходимым требовало ввода в эксплуатацию стратегически важных промышленных объектов. В холодных цехах в самое короткое время было налажено производство бомб и снарядов для вооружения нашей армии. Папа не выходил из цеха неделями. Перед проходной висел плакат: «Равняйтесь на стахановца Терешкина!» Мама была заведующей детским садом того самого оборонного завода, где работал папа. Приказ—срочная эвакуация детей в Куйбышев. Помню вагоны-теплушки, с наброшенной соломой, накрытой одеялами, не- хватку продуктов, прорези вместо окон. Когда доберемся до места? Оно далеко! Машинисты поезда переводили все время состав с одних рельсов на другие, какое- то время пережидали, уходя от бомбежки. Мама в тяжелом нервном напряжении: у нее и двух воспитательниц на руках маленькие дети, и все они для них были родными. На вокзале нас встречал человек из районной администрации, но, как выяснилось, помещение для размещения детей еще не успели подготовить. В холод мама с «уполномоченным товарищем» стучались в двери домов—детям нужно было поесть, отдохнуть и отогреться. Впоследствии благодаря маме, человеку с твердым характером и безграничной ответственностью, детям выделили отдельное помещение. А к лету построили домики на берегу Волги рядом с санаторием для раненых военных летчиков. Заболевшим в дороге во время эвакуации детям это было особенно необходимо: многие переболели малярией, в том числе и я, и нуждались в лечении. …На нас с Люсей была возложена огромная ответственность—получать по карточкам продукты. Помню, вставали очень рано, что- бы занять очередь за продуктами (а вдруг чего-то не достанется). Сестра будила меня и говорила: «Валя, вставай, нам пора». Мы шли по темным улицам, было страшно, сестра крепко держала меня за руку. Однажды мы потеряли хлебные карточки—все-таки дети!.. …День Победы. Совершенно незнакомые люди обнимались и целовались, рыдая от счастья на груди друг у друга. Все мы были одной семьей. Это было такое неповторимое чувство ЕДИНЕНИЯ. Мы вернулись в Москву в 1946 году Мамы не стало рано, врачи сказали: слишком много она пережила. Мой супруг—Михаил Иванович Шестов—в 14 лет пошел работать на завод (на фронт не брали, мал был еще). Впоследствии за само- отверженный труд в тылу он был награжден юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». СЛАВА всем, кто приближал нашу Победу! Записала Виктория Федорова.
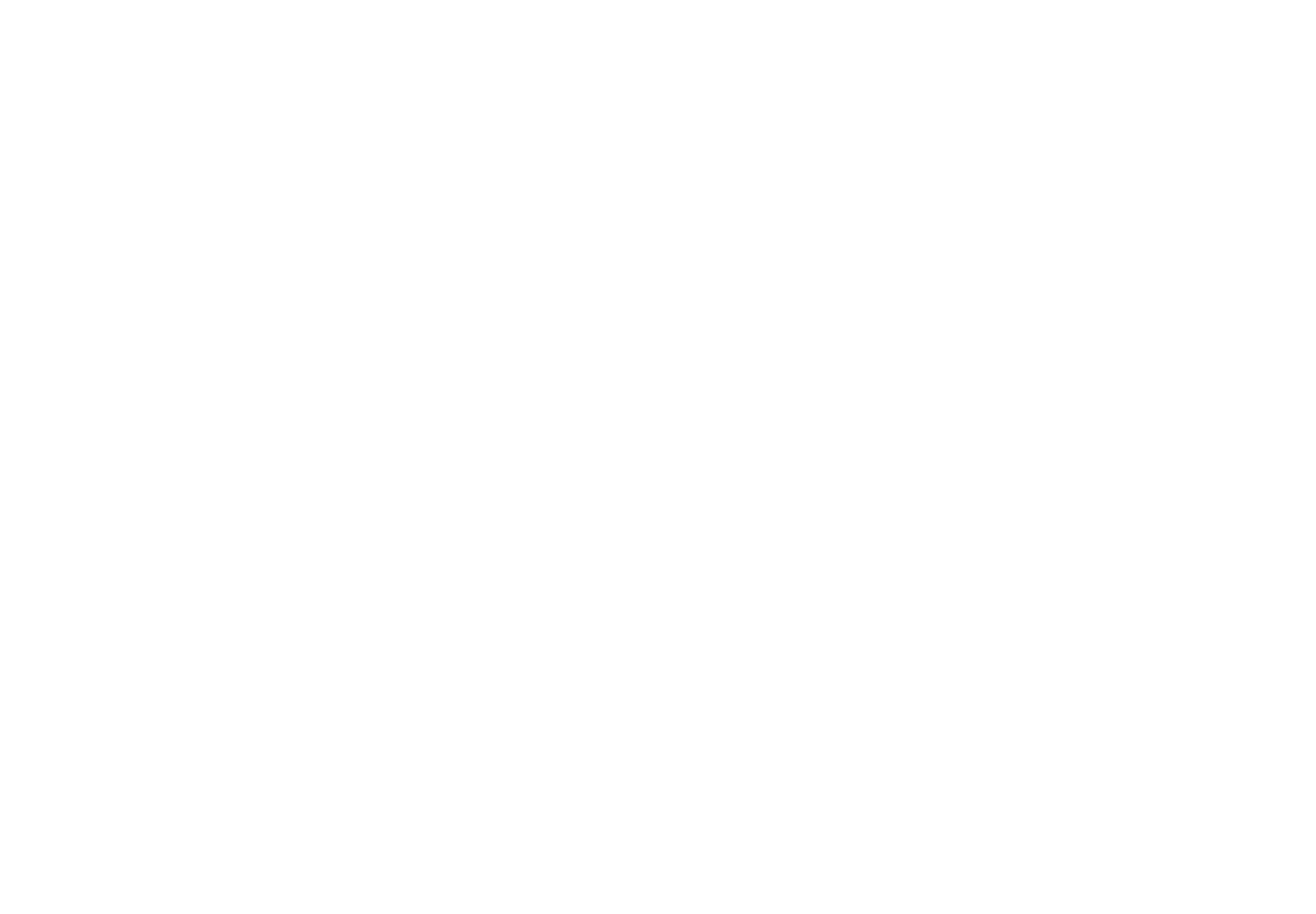
Валентина Михайловна Шестова, доцент кафедры стилистики русского языка
До сих пор бабушка и береза у меня перед глазами, как в тот осенний день 41-го
Марина Ивановна Алексеева, доцент кафедры редакционно-издательского дела и информатики
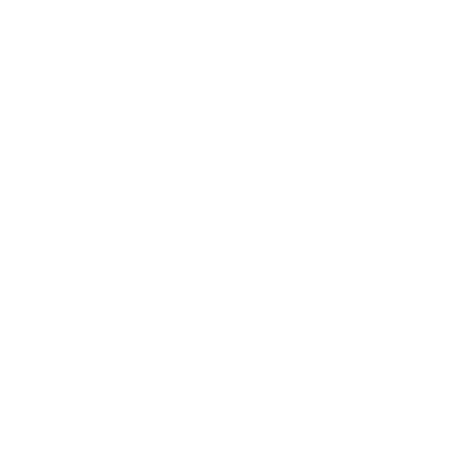
Мама Марины Алексеевой
Хочется рассказать две-три истории из того далекого времени, запечатлевшиеся в сознании пятилетнего ребенка и навсегда оставшиеся в его памяти… …Нас, москвичей, эвакуировали на Урал—под Челябинск, в село Есаулка. Поселили в большом каменном доме, холодном и неуютном. До войны это была мельница. Все вместе жили, хотя и по углам. Горькое было житье. Ни- какой связи с Москвой, с родными и близкими. Как они там? На фронте? В Москве? Однажды в сельском клубе показы- вали фильм, какой—не помню. А перед фильмом—«Новости дня». И мы увидели улицу Горького, начало Лесной и наш дом! Какая была радость, какое ликованье. Наш дом цел! Его не разбомбили фрицы! Никто и не думал тогда, сколько времени прошло со дня и часа документальной съемки. За это время все могло случиться. Когда мы уезжали, Москву бомбили постоянно. Мы ночевали в метро на станции «Маяковская». А сейчас—наш дом цел! … Как-то мы с бабушкой пошли в лес по грибы и ягоды. Бабушка нашла на полянке сыроежки и бережно складывала их в корзинку. А я залезла в кусты— малиной лакомилась. И вижу сквозь ветви ягодника: бабушка обхватила обе- ими руками березу, прижалась к ней щекой и горько-горько плачет. Я притихла и вышла из кустов только тогда, когда бабушка позвала меня. Я понимала, почему бабушка горюет. Вот уже осень 41-го была на исходе, а от отца и де- душки никаких известий, ни единой весточки. До сих пор бабушка и береза у меня перед глазами, как в тот осенний день 41-го. …В 1942 году мы были уже в Молотове (ныне Пермь). Отец там работал и пере- вез нас из Есаулки. Жили мы в большом каменном доме. Двор дома граничил с территорией военного госпиталя. А в правом крыле нашего дома, в подвале, находился госпитальный морг. Госпиталь располагался в стандартном школьном здании—красный кирпич, большие окна. Окна выходили к нам во двор. Мы часто гуляли возле дома—я, мой двухлетний братик и мама. Мы играли, мама читала или играла вместе с нами. Стали замечать, что за нами из окна госпиталя кто-то наблюдает. Вероятно, раненый. Лицо очень бледное, почти белое. Черты не разглядеть. Так продолжалось довольно долго. Мы играли—он смотрел. На нас или на маму? Мама была очень красива и молода—всего 24 года. Глядя на детишек, раненый, быть может, вспоминал о своей семье… Настал день, когда человек за окном госпиталя не появился. А к маме пришла санитарка и протянула ей сложенную вдвое пачку машинописных листков. Сказали, что перед смертью раненый очень просил передать ей. Это были «Рубаи» Омара Хайяма—полные глубокого содержания и философского смысла о человеке, жизни, смерти и любви, мудрые мысли поэта: Ты скажешь, эта жизнь—одно мгновенье. Ее цени, в ней черпай вдохновенье. Как проведешь ее, так и пройдет, Не забывай: она—твое творенье. Мама хранила эти страницы всю свою жизнь. Часто я думаю о том, что же это был за человек? Совсем молодой. Он взял с собой на фронт то, что было ему особенно дорого,—эти стихи. Они всегда были где-то рядом, быть может, у сердца. Ведь его, вероятно, вынесли прямо с поля боя. Не в вещмешке же он их хранил. Человек хотел жить, мечтал о любви. Перед ним открывалось будущее. Война оборвала все. Жестокая, кровопролитная война, в которой погибли десятки миллионов людей. А это значит—у них не родились дети, и у этих детей —дети, внуки, правнуки, праправнуки… Не человек, а целое человечество загублено было. Казалось, во время Второй мировой войны больше никто и никогда не захочет и не станет воевать, что люди поймут—жизнь бесценна. Записала Анна Рязанцева.
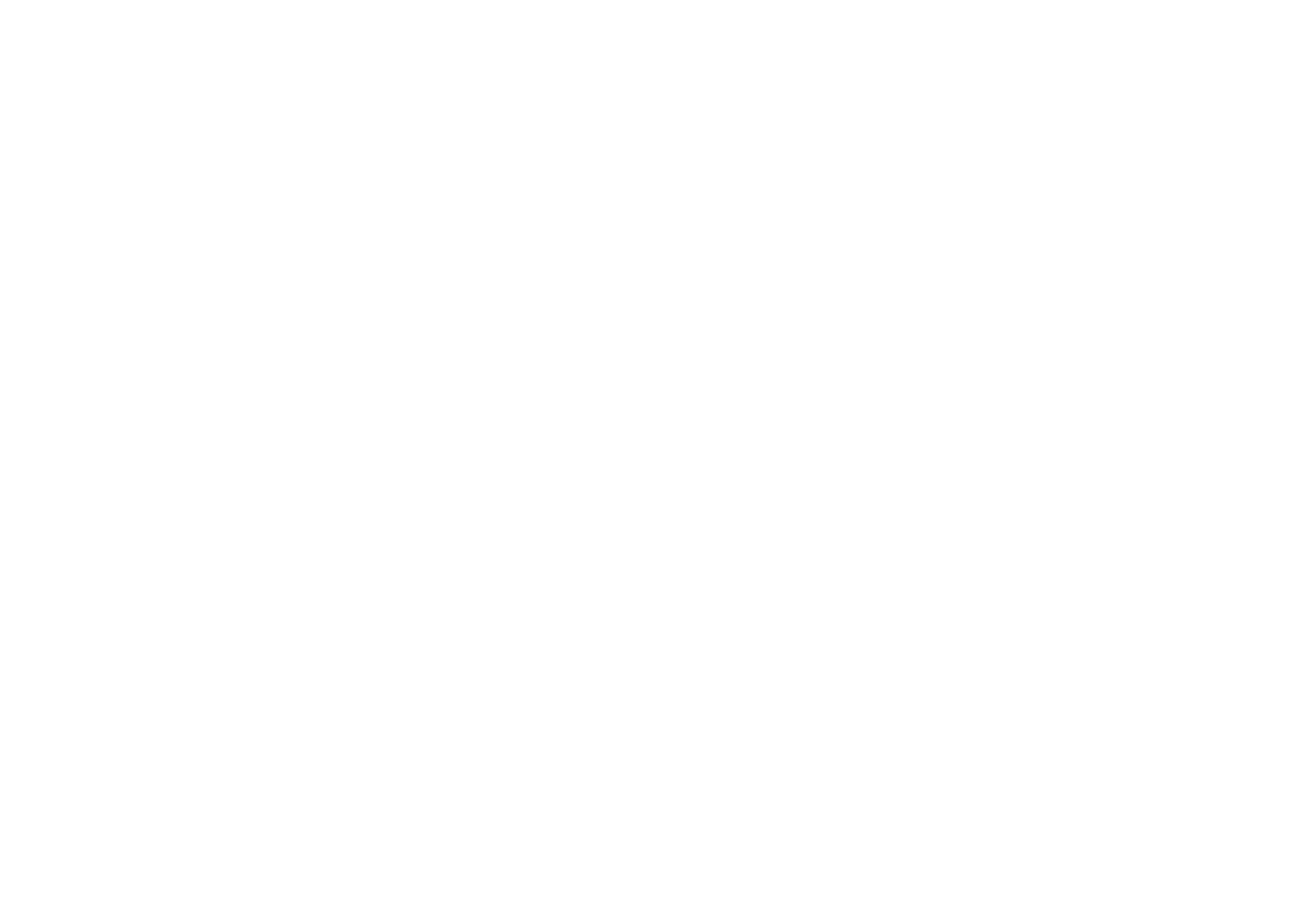
Завтра была война. 1941 год
Все дети играют, а я им говорю: «Мне за хлебом нужно»
Людмила Сергеевна Кустова, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы
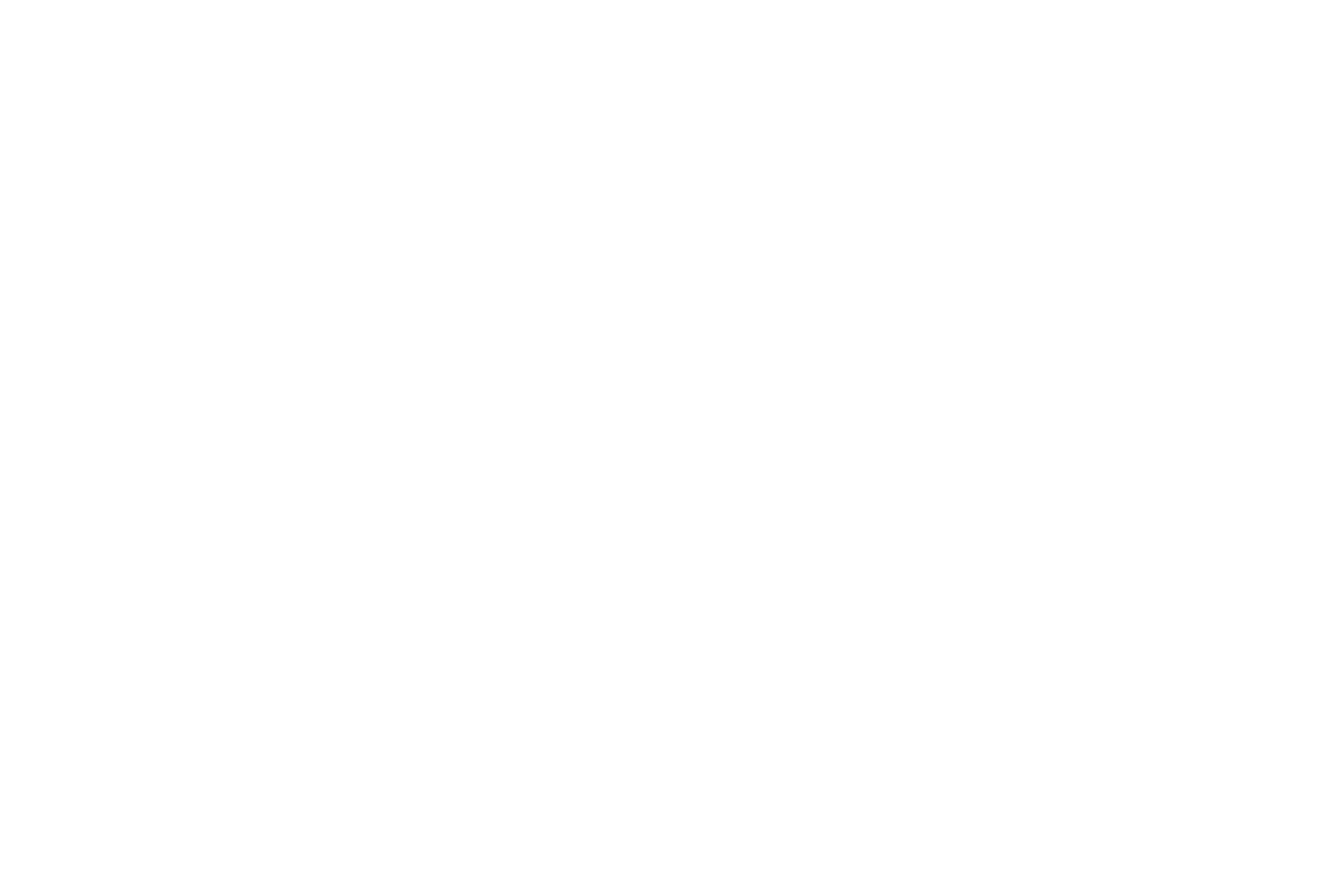
Людмила Сергеевна Кустова, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы
У меня воспоминания детские, как у Бенджи из «Шума и ярости»—яркими вспышками. Я вчера вспоминала, и первый такой кадр возник перед глазами: мы жили где-то между Аэропортом и Соколом, там, где сейчас отель «Палас». Там был парк, и в этом парке были аэростаты. И вот первое мое видение—аэростат. А рядом с ним стоит девушка с автоматом. Аэростаты сначала охраняли—а потом их уже перестали охранять, видимо, когда бомбежки прекратились. И там висела табличка, я ее не могла прочитать. Там что-то было написано—видимо, пугали, что будет, когда эти аэростаты запустят… Они поднимались вверх, когда начинался немецкий налет, чтобы помешать вражеским самолетам. Эти сферы были сшиты из какого-то, видимо, парашютного шелка. Я где-то читала, что потом этот шелк активно использовали—платья шили, и в промышленности… Это мое первое впечатление. Затем у меня была книга «Орленок», которую я хранила и после войны. Это была песня «Орленок», которую вы все знаете, но строчек-то было мало внизу, а сверху—иллюстрации. Я плохо помню иллюстрации, и строчки потом уже запомнила, но я помню свои размышления: «Лети на станицу, родимый, расскажешь…» Я думаю, ну почему «станицу», когда «столицу»? Я не знала, что есть слово «станица». Мне рассказали, что эту кни- гу мне папа перед отправкой на фронт в сорок третьем оставил. Он заходил домой, но меня будить не стали. Теперь дальше. Все мои коллеги и все мои сверстники вспоминают голод. Я голода не помню, потому что по традиции, по генетике моей семьи, дети плохо едят. Есть дети, которые не едят и не едят. В общем, я голода не помню, только головокружение легкое. Но я запомнила такой факт: у меня была двоюродная сестра по папе, а мы пришли в гости к ее двоюродной сестре, и нам предложили картофельные оладьи. Потом мне рассказали, что по предприятиям Москвы выдавали болтушку из натертой картошки. Ее приносили домой и жарили картофельные оладьи. Там было больше очисток, чем картошки, но тем не менее. А мы с моей сестрой отказались есть эти оладьи. А девочка нам повторила раз пять: «с маслом, с маслом». И я вот всю жизнь вспоминаю, смотря на масло, как она произносила это «с маслом». Так что, видимо, голодно было, конечно. Самое светлое впечатление—это салют. Видимо, уже победа была близко, я уже повзрослела. И, вероятно, салюты были в честь взятых городов за пределами нашей страны. И вот был один день, бабушка повезла меня и мою двоюродную сестру смотреть салюты, то ли два, то ли три. Фонтаны били! Фонтан был потрясающий на Пушкинской площади и был у Большого театра, и какая-то была подсветка, они были то красные, то розовые, то синие, то голубые, то зеленые… Необычайное зрелище. И—салюты. Были в городе точки, откуда было можно смотреть… И получилось то ли три, то ли четыре салюта. Потому что, пока мы хо- дили, вдруг включились громкоговорители, и Левитан сказал, как всегда: «Наши доблестные войска взяли такой-то город». Какие города, я не знаю, но этот день я вспоминала всю жизнь, и эти салюты. А салюты Победы я не видела: нам сказали спать, а наутро мальчишки во дворе говорили, что был какой-то необычайный салют, и мне было очень завидно. Всю войну я пробыла в Москве, никуда не уезжали. Мама была фаталисткой. Из рассказов я знаю: сначала ходили в метро, прятались от бомбежек, а потом уже никто никуда не ходил, перестали бояться: приходили соседи, играли в карты… Конечно, не в азартные игры—просто соседи собирались покучнее, так проводили время. А до метро далеко было идти, минут пятнадцать, наверное. Семья. Была моя бабушка, у нее было три сына, дедушка умер, а все трое сыновей воевали. Мой папа—старший, вначале с заводом эвакуировался. Потом завод доехал до какого-то города, а потом поехал в Сибирь. И вот, когда он поехал в Сибирь, то часть рабочих отправили на фронт, в том числе и моего отца, поэтому он войну начал позже. Второй брат, это мой дядя Женя, с самого начала ушел на фронт. Он всю войну провел на южном направлении—Одесса, Молдавия и так далее, с первого дня. И он вернулся чуть раньше, он был контужен. И третий дядя— его еще здесь обучали, он позже начал—был на Кавказском фронте. Все трое воевали, и все вернулись. И я услышала, как поет моя бабушка, и я говорю: «Как же так, ты никогда не пела!» А она мне ответила: «У меня три сына воевали, и все вернулись, как же мне не петь!» Мама принимала участие в лесозаготовках, она работала в детской больнице, инфекционной, с тяжелыми больными… Но ее поставили на лесозаготовки. Я помню, она страдала страшными мигренями, и, видимо, там было такое напряжение, что ее отпустили. Но у меня была и радость: мама привезла на платья мне и моей сестре материалы, из которых бабушка (а она очень хорошо шила) сшила нам два красивых платья из розового ситца с цветочками. Так что была и радость. Ну и, конечно, карточки разные. Розовые, зеленые квадратики, и их отрезали. Эти талончики нужно было «отоваривать». Было очень сложно отоварить, потому что брали то, что есть. Но можно было водку и папиросы поменять на рынке на что-нибудь, на молоко, на хлеб. Другого выхода не было, потому что водка, папиросы тогда были не нужны, а молоко было нужно. После войны, до того, как отменили карточки, у меня была семейная обязанность ходить за хлебом. Но как: карточки в руки не давали—могли потерять, а я должна была занимать очередь. Там была около магазина песочница, и приходили дети. Я позавтракаю, меня отправят, и я приходила, была четвертая, пятая, шестая в очереди. И когда приходила машина, пока ее разгружали, я неслась домой, чтобы мама брала карточки и приходила, стояла в очереди за хлебом. Черный хлеб можно было купить в течение целого дня, а белый—только когда машина пришла, его быстро раскупали. У меня была такая семейная обязанность, она очень мешала жить, потому что все дети играют, а я им говорю: «Мне за хлебом нужно». Вот такая была жизнь, то, что я помню. Записала Маргарита Косолапова
Конечно, никто «фашистами» быть не хотел, приходилось заставлять
Александр Алексеевич Тертычный, профессор кафедры периодической печати
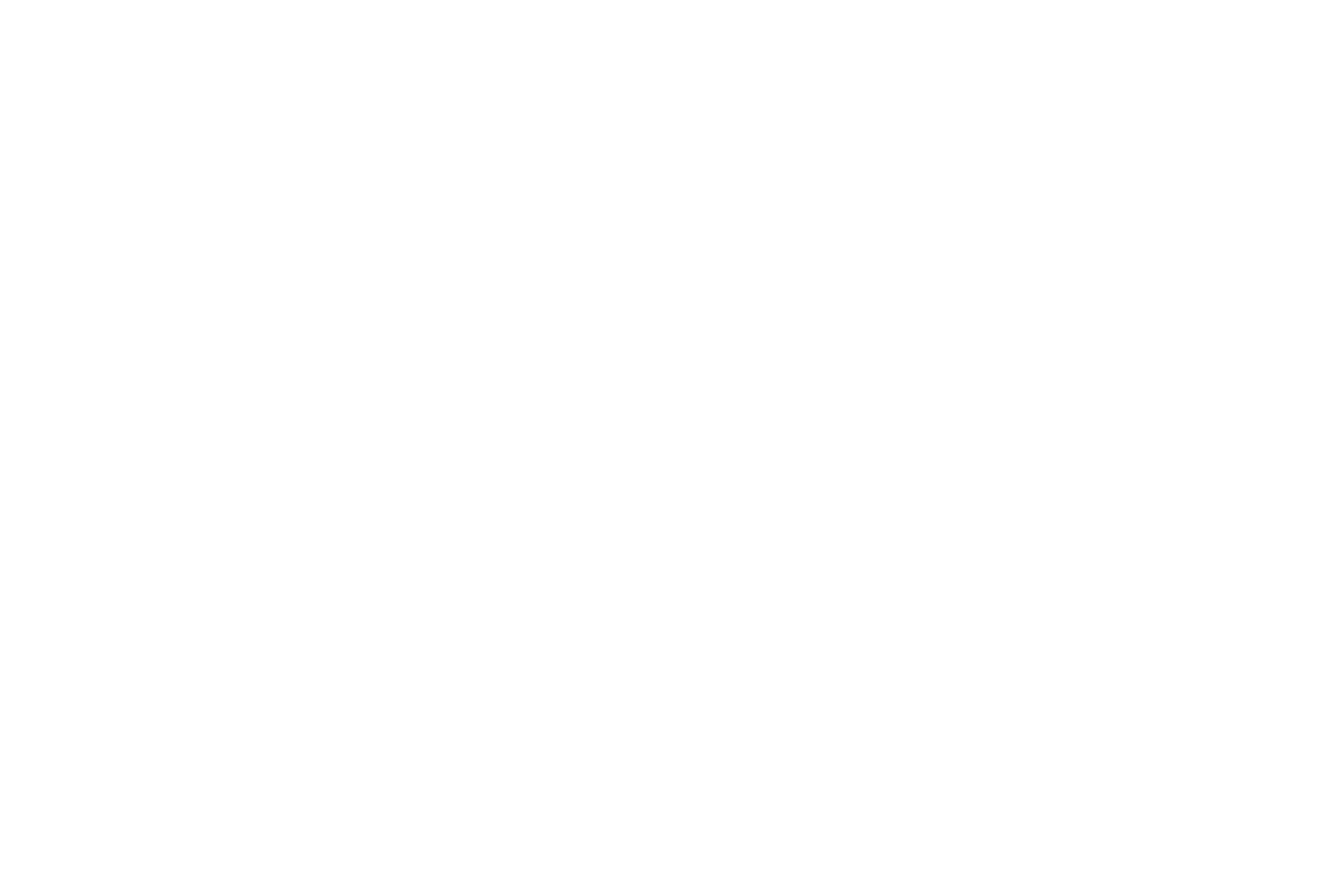
Александр Алексеевич Тертычный, профессор кафедры периодической печати
Я родился за год до Победы, поэтому, разумеется, войну я не видел. Но помню, что рас- сказывали о ней родные. Помню следы, оставленные ею на нашей земле: заросшие травой окопы и воронки от бомб, полуразрушенные блиндажи и капониры для пушек, нашпигованные осколками склоны оврагов. Помню трофеи, которые, даже спустя пять лет после войны, жители находили в местах, где шли бои: неразорвавшиеся мины, винтовки, пистолеты, штыки, патроны. Взрослые сдавали все в милицию. Но если нечто подобное находили дети, то использовали в своих играх, пока находки не попадали на глаза взрослым. Основная игра называлась «войной». Одни были «нашими», другие—«фашистами». Конечно, никто «фашистом» быть не хотел, приходилось заставлять. Слово «фашист» тогда было самым страшным, а назвать кого-то фашистом значило нанести очень тяжелую обиду. Люди ненавидели незваных гостей. У меня долго хранились послевоенные игрушки. По-настоящему ценных было три: дюралевый краснозвездный самолетик-бомбардировщик, оболочка от нашей ручной гранаты без заряда. И… гильза от мадьярской пушки. Она изготовлена из хорошего металла, я до сих пор берегу ее. Отец принес ее с поля боя. Из нее сделан подсвечник, в который вставлялась толстая сальная свеча. При такой свечке в землянках обычно писали письма или читали. На гильзе выгравированы надписи на венгерском: «EMILKOU PUCONHEK» (имя воина), «KELETI FRONT» (Восточный фронт), «N.J.1942» (Новый год.1942). Подсвечник был явно сделан на память о войне. Став взрослым, я пытался найти этого человека, но не удалось. Очевидно, он погиб на войне или умер. Я помню, в центре села, где мы жили, над въездом на территорию МТС была большая высокая арка из кирпича. Она еще долго стояла после войны как напоминание о тех ужасах, что здесь творились. В этой арке вешали партизан и всех, кто сочувствовал Красной Армии, расстреливали моих односельчан. Возвращавшиеся с войны рассказывали немного и только посторонние, веселые вещи. Мой знакомый сержант считал, что говорить о войне нельзя, и только желал мне, чтобы я никогда ее не увидел. На детей, что родились в то время, война наложила свой отпечаток, им многое пришлось пережить. Жизнь давно стала другой. Неизвестно, какой бы она была, не будь Победы, дорогой ценой добытой 71 год назад. Записала Полина Хрестюхина
Я должен был ехать в «Артек», но война помешала
Григорий Яковлевич Солганик, профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка
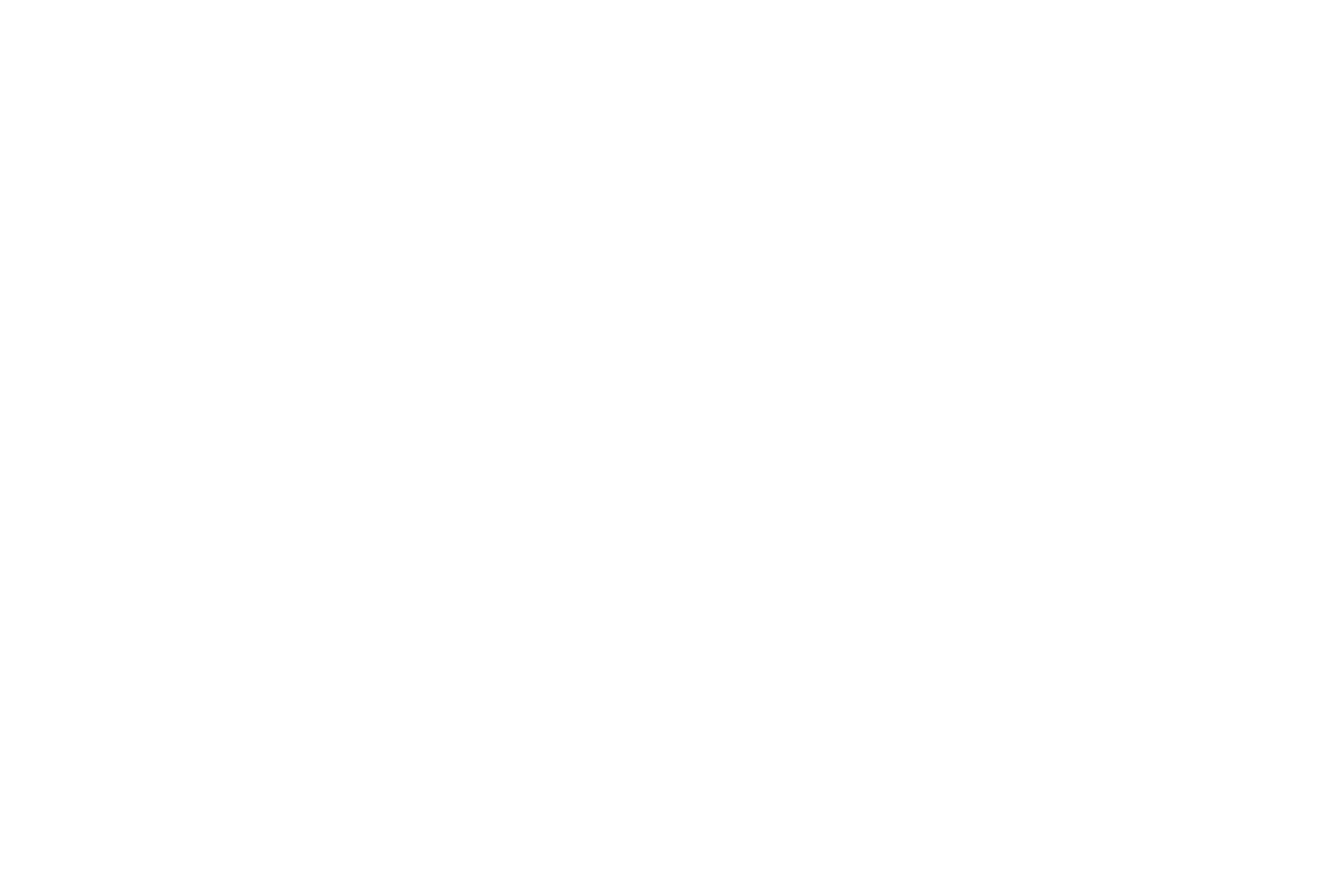
Григорий Яковлевич Солганик, профессор, заведующий кафедрой стилистики русского языка
Когда началась война, я только закончил первый класс. Я учился в 479-й школе, и у меня была учительница Ольга Николаевна. У нас тогда был предмет чистописание, сейчас такое не практикуется. И она нас учила красиво писать букву «о», потому что ее звали Ольга. И мы все с удовольствием это делали.Мне было девять лет, и я должен был ехать в «Артек», но война помешала. И я лишился «Артека». Мы с родителями и сестрой жили на Таганке, тогда там еще не было метро. Москву бомбили по два-три раза за ночь. Когда темнело, мать брала меня и сестру и некоторые вещи и шла к Кировским воротам. Там мы спускались в метро, но шли не по перрону, а по шпалам, там, где обычно ездят поезда: перрон и так уже был полон людей. Когда начинались бомбежки, звучала сирена, очень громкая, но в метро мы ее не слышали. Но мы понимали, когда начинают бомбить по большому количеству прибывавших людей. Каждую ночь мы проводили в метро, расстилали одеяла и спали там, а утром возвращались домой. Я помню, как собирал осколки разорвавшихся снарядов во дворе рядом с домом. Они были еще теплые. Это было так интересно. Мне тогда сон приснился. Как в наш двор сбрасывают немецкий десант, с автоматами наперевес, и они всех убивают. Он мне потом много раз снился, один и тот же сон. 16 октября в Москве началась паника. Люди боялись, что немцы войдут в город. Начались грабежи, мародерство, многие бросились уезжать. Отец проводил нас в эвакуацию в город Бирск, это Башкирия. А сам пошел воевать. В эвакуации мы были два года. Жили в избе у Петровича. Он был алкаш и пел каждый вечер: «Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка темная была». Когда мы вернулись в Москву, оказалось, что нашу квартиру разбомбили, и нам дали другую. Записала Мария Рыбникова
Мы мечтали о куклах с закрывающимися глазами
Людмила Демьяновна Болотова, доцент кафедры телевидения и радиовещания
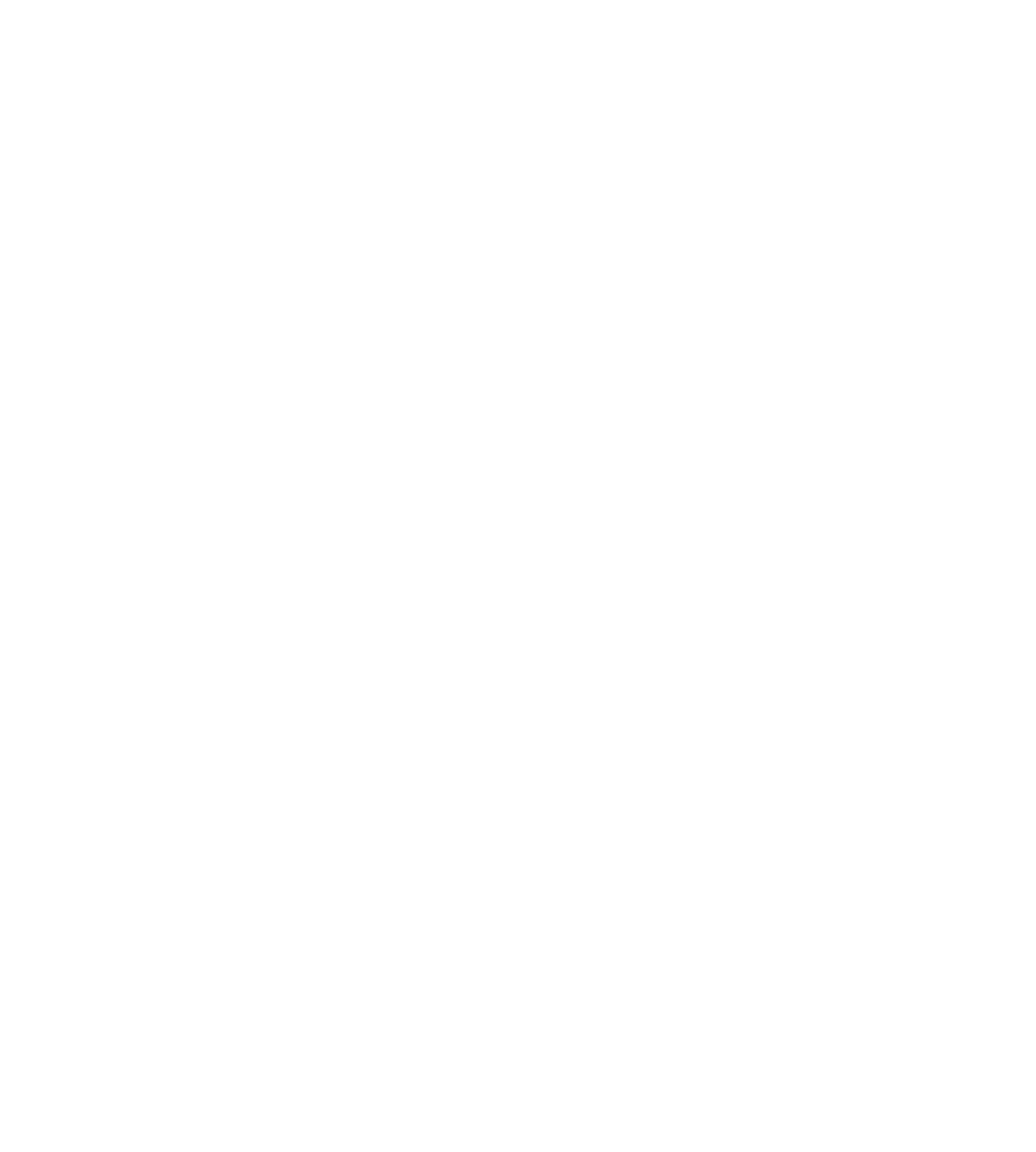
Людмила Демьяновна Болотова, доцент кафедры телевидения и радиовещания
Когда началась война, мне было шесть лет, и эти воспоминания могут показаться очень наивными, потому что мы были детьми. Мы всей семьей жили в Свердловске, а папа за год до войны получил назначение в Днепропетровск. Он преподавал в горной академии, и мы просто ждали, когда ему дадут какое-нибудь жилье, чтобы переехать к нему. А когда началась война, мы полгода ничего о нем не знали. Первым воспоминанием было то, что, оказывается, у нас большая семья, потому что к нам в Свердловск переехали наши московские родственники и бабушка с дедушкой—из Брянска. Нас было 12 человек, и мы жили в двухкомнатной квартире. Мы—три сестры—имели свою комнату, где стояли три железные кровати, а в большой жили все остальные. Мама была учительницей, тетки работали в военном госпитале, часто оставались на ночное дежурство, поэтому не было такой тесноты. Бабушка с дедушкой всегда находились в квартире, там же был двоюродный брат. Спал он на деревянной раскладушке, и мы долго смеялись, когда он упал с нее. Это было ощущение крепкой, дружной, сплоченной семьи, где все друг друга поддерживают. Бабушка готовила для всех на буржуйках, а дедушка был мастер на все руки. Он так соединил две буржуйки, что все соседи приходили посмотреть на эту конструкцию, потому что можно было готовить как на двух конфорках. Второе воспоминание—это удивительные друзья во дворе. У нас была замечательная компания. Мы были немножко разбойники, бегали по крышам, строили ледяные горки. В этой компании были две девушки, я не знаю сколько им было лет, даже лиц их не помню, они решили устроить детский театр. Это была удивительная отдушина. Мы там пели, читали стихи, ставили пьесы, и все, кто был свободен, становились на- шими зрителями. Помню, иногда нам выдавали какао. Ба- бушка смешивала его с сахарным песком и сметаной. Случалось это крайне редко, но вкусно было до безумия. Только вот с тех пор я совершенно не переношу какао. Помню, как я впервые попробовала шпроты. Меня с сестрой дедушка водил на детскую площадку. Однажды нам на закуску дали кусочек черного хлеба, и сверху была эта маленькая рыбка—шпротенька. Это было очень вкусно! Еще запомнился такой случай. У нашей подружки была маленькая сестричка Рита. На дворе лето, окна открыты. Мы сидим в комнатке, и вот эта Рита встает на подоконник, и я уже не знаю, каким образом, но она выпала со второго этажа. Внизу лежали какие-то трубы. Слава Богу, приземление было мягким. Она зацепилась за бельевую веревку, но ранку все-таки получила на лбу. Ощущение, что что-то происходит, было тогда, когда начинали съезжаться родственники, выключали свет, ночью зажигали керосиновые лампы. Самое страшное было, когда пришла первая похоронка, и мы узнали, что погиб папа одной из девочек—талантливый математик, красивый голубоглазый мужчина. Я думаю, что сестра даже не понимала этого, но то, как тетя в 25 лет осталась вдовой, и то, как она плакала, я помню хорошо. А еще у нас, у девчонок, была маленькая мечта—это куклы с закрывающимися глазами. И когда они у нас все-таки появились, я свою сломала. Так вот, мой дедушка как-то открыл ее череп и починил ее глазки, чтобы они снова открывались и закрывались. Это было невероятное счастье. А еще мне хотелось такого же тигренка, как у моей московской сестры, но таких уже не было. Но самый счастливый день—это когда от папы пришла весточка, что он жив, и когда пришло чувство, что скоро Победа. С этим чувством родственники начали разъезжаться. В тот момент внутри были противоречивые чувства. Вроде и счастье, ведь война заканчивается, но и пустота какая-то, ведь мы жили такой большой и дружной семьей, а тут вдруг какая-то часть ее пропала. Сам же День Победы мы встретили не в Свердловске. К этому времени мы пере- ехали в Киев, где папу незадолго до Победы оставили на важной работе. Я видела разрушенный город: электричества не было, воды тоже. Мы носили воду на пятый этаж, мама—ведрами, а мы с сестрой—в чайничках. Вокруг все было разрушено, а наш дом каким-то чудом остался цел. День Победы мы отмечали всей семьей в машине, когда ехали по ночному Киеву. Люди не спали, выходили на улицы. С нами также была мамина подруга с до- черью. Салют и чувство Победы оставили непередаваемые ощущения. Записали Глеб Голубин, Алина Уртава
