Павел Макаревич: «Регенеративная медицина — наука еще встающая на ноги, но уже интересная почти всем»
Кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией генно-клеточной терапии Института регенеративной медицины Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Макаревич рассказал о своем исследовательском пути, новейших разработках в области регенеративной медицины, особенностях работы ученого и проблемах современной науки.
Как Вы впервые заинтересовались наукой?
На самом деле, у меня нет профильного образования. Мое образование – врачебное. По-настоящему заинтересовался наукой я года два назад, а до этого был долгий поиск.
Наверное, более правильный вопрос: «Как я пришел в лабораторию». Это было на третьем курсе. На факультете фундаментальной медицины всегда надо делать короткие курсовые, и я по сути пытался выполнять то, что говорят. В таком режиме это продолжается до аспирантуры. Дальше уже начинаешь думать, что хочешь делать сам, и тогда ты интересуешься наукой. Так что заинтересовался наукой я в 2016-м году, а впервые столкнулся (зашел в лабораторию) в 2005. Между «начал» и «понял, чего я хочу» где-то десять лет.
В Институт регенеративной медицины я был практически приглашен деканом факультета фундаментальной медицины и ныне директором Института, академиком Всеволодом Арсеньевичем Ткачуком. В аспирантуре я занимался разработками в области генной терапии, очень хотел развивать это направление и, естественно, не мог отказаться от такого предложения.
На тот момент Вам была интересна регенеративная медицина?
Мне было интересно понять, чем я буду заниматься, и регенеративная медицина тоже была интересна. Но четкого понимания, что такое регенеративная медицина тогда не было и сейчас, признаться, нет. У врачей это одно, у клеточных биологов — другое, у индустрии — третье. Здесь было открытое поле, куда нас всех выпустили и поручили создавать то, что кажется интересным и нужным. Но важно не забывать, что все-таки есть слово «медицина» и, соответственно, совсем фундаментальной наукой заниматься поощряется, но надо всегда держать в прицеле, какую медицинскую задачу можно решить с помощью наших открытий.
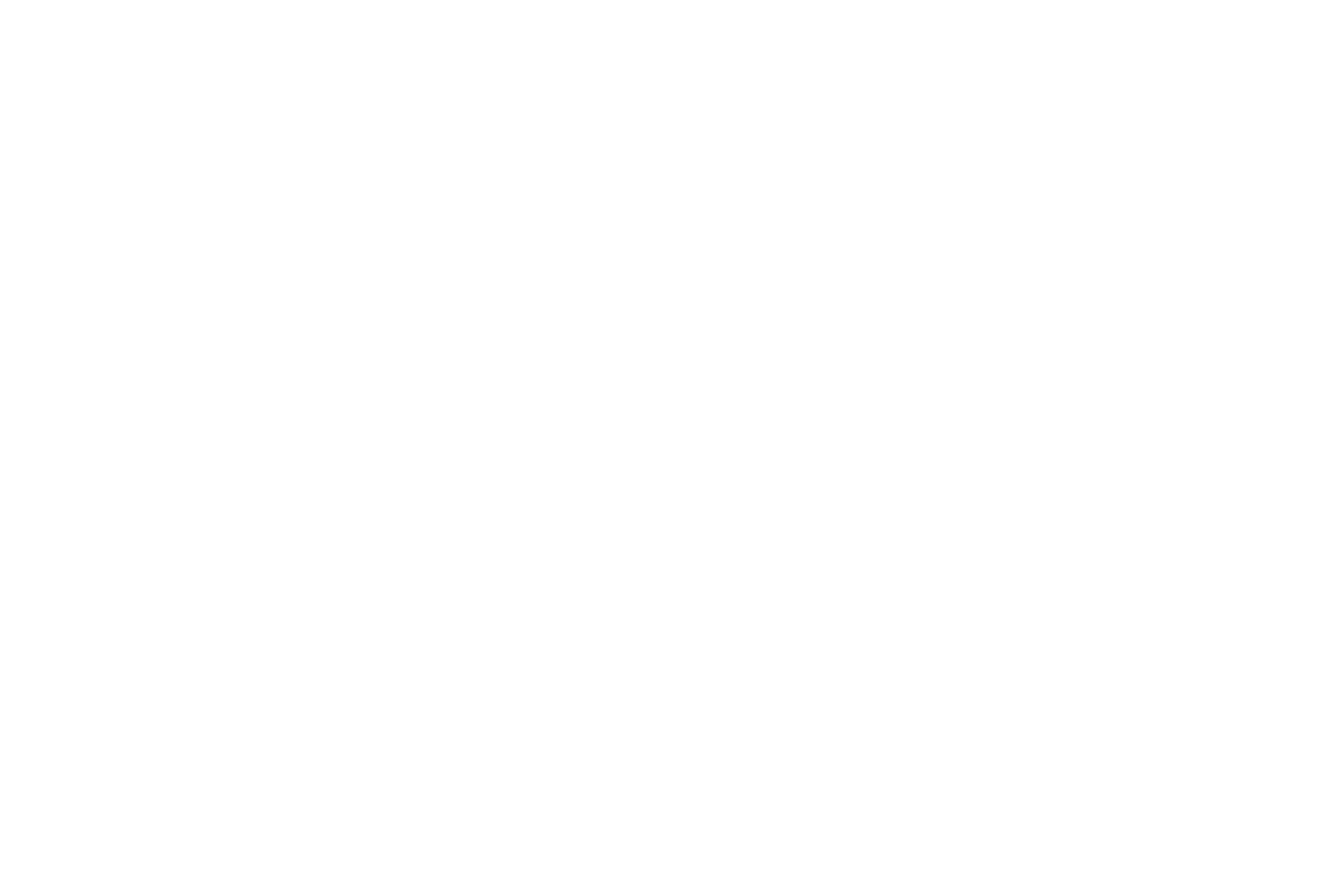
Регенеративная медицина сейчас малоизучена?
Регенеративная медицина — это как «сборная солянка» — каждый ее компонент по отдельности очень хорош, но все вместе – совсем замечательно. Это новая наука, а в новых науках всегда есть проблема отсутствия дефиниций (логических процедур придания строго фиксированного смысла терминам языка — прим. ред.) и базовых определений. Мы не до конца знаем, что мы познаем, изучая основы регенеративной медицины — это проблема чисто философская. Поэтому эта наука еще на стадии развития, но уже не зарождения, наука еще встающая на ноги, но уже интересная почти всем.
В декабре прошлого года Вы и Ваши коллеги из Института регенеративной медицины разработали новый способ получения каркаса для стволовых клеток, который можно будет имплантировать пациенту для наращивания у него недостающих тканей и даже органов. Какие перспективы развития есть у данной разработки?
Мы много работаем со стволовыми клетками, это наш мажорный объект. Работаем и с фундаментальной точки зрения, и с прикладной. Среди прикладных: инженерные конструкции из стволовых клеток, которые мы давно уже разрабатываем — своего рода «сообщества» клеток, созданные самими клетками в чашке (чашка Петри — лабораторный сосуд для клеточных культур — прим. ред.). Плюс в том, что, когда клетки объединяются в такое сообщество, то они лучше выживают, у них более завидная судьба после трансплантации в зону травмы или повреждения. Вообще, там условия для выживания клеток очень скверные, и введенные туда разрозненно с помощью инъекции, они погибают. А при использовании каркасной инженерной конструкции можно обеспечить выживаемость клеток. Дальше они оказывают свой регенеративный эффект, и мы вправе ожидать ускорения заживления ран, переломов и других травм.
В перспективе мы хотим провести клинические исследования, например, у больных с пролежнями. Но существует большое количество ограничений: такая клеточная конструкция будет дорогостоящей, и мы понимаем, что, в отличие от лекарств и пластырей, клетки невозможно хранить месяцами — их нельзя стерилизовать, а надо произвести, собрать и только тогда трансплантировать. Должен быть суперэффект, ради которого можно пойти на такие риски и потратить столько денег. Клеточные продукты отнесены к терапии высокого риска, и пока это оправданно. Пока мы хотим попробовать выйти в доклинику (доклинические исследования — прим. ред.), а потом, если метод будет эффективным и безопасным, то и в клинику.
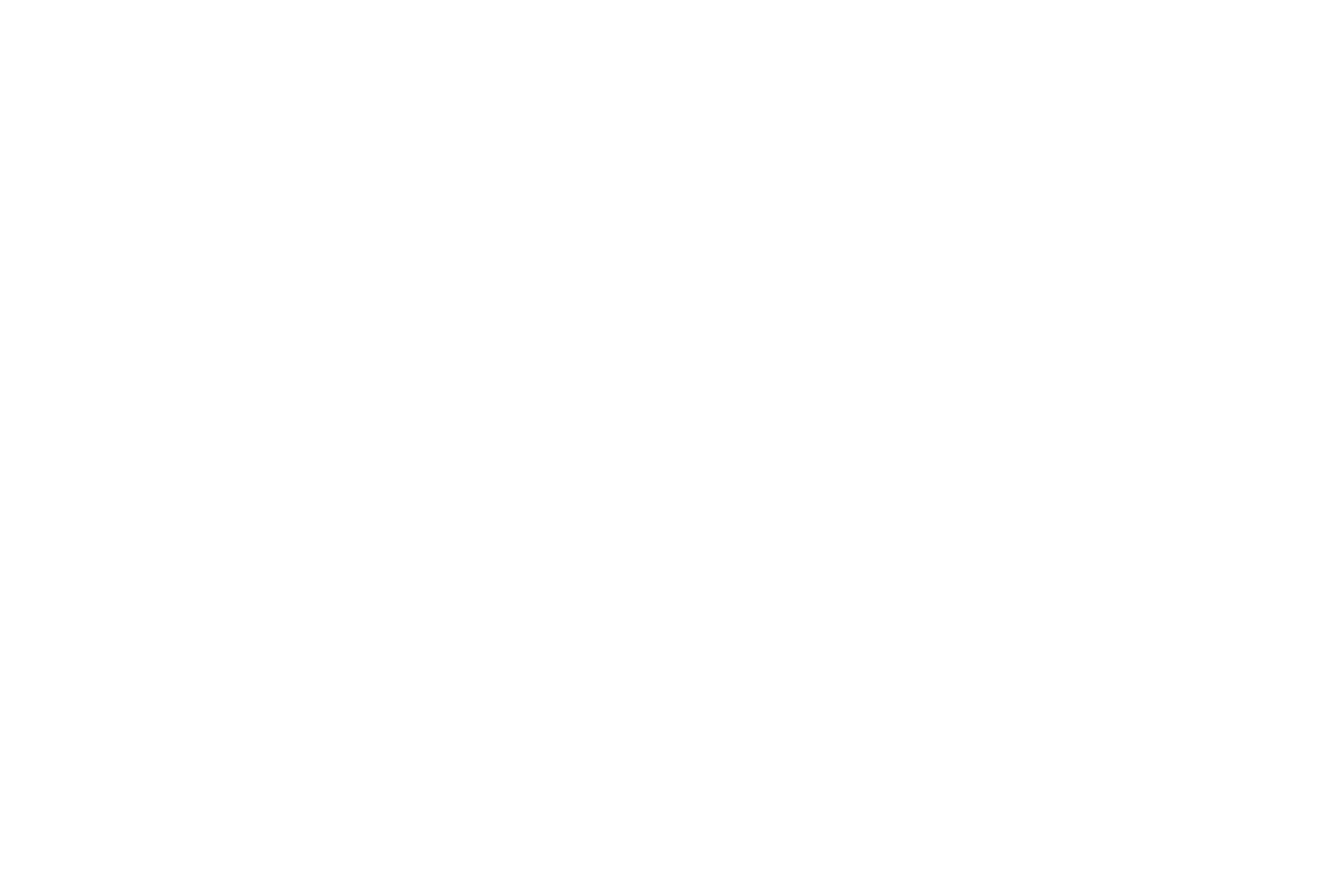
Но в целом это была достаточно серьезная разработка для медицины?
Она (разработка) показала высокую эффективность: у животных на месте пролежня закрывался дефект и происходил рост волос без рубца — это указание на высокую эффективность и очень серьезное достижение, так как обычно пролежень закрывается с образованием рубца. Опираясь на хороший регенеративный потенциал разработки, можно обосновывать её применение в клинике, есть шансы, что она будет применяться в медицине. Несмотря на то, что это очень дорого, наша технология по сравнению с многими другими подходами клеточной терапии — почти бесплатная.
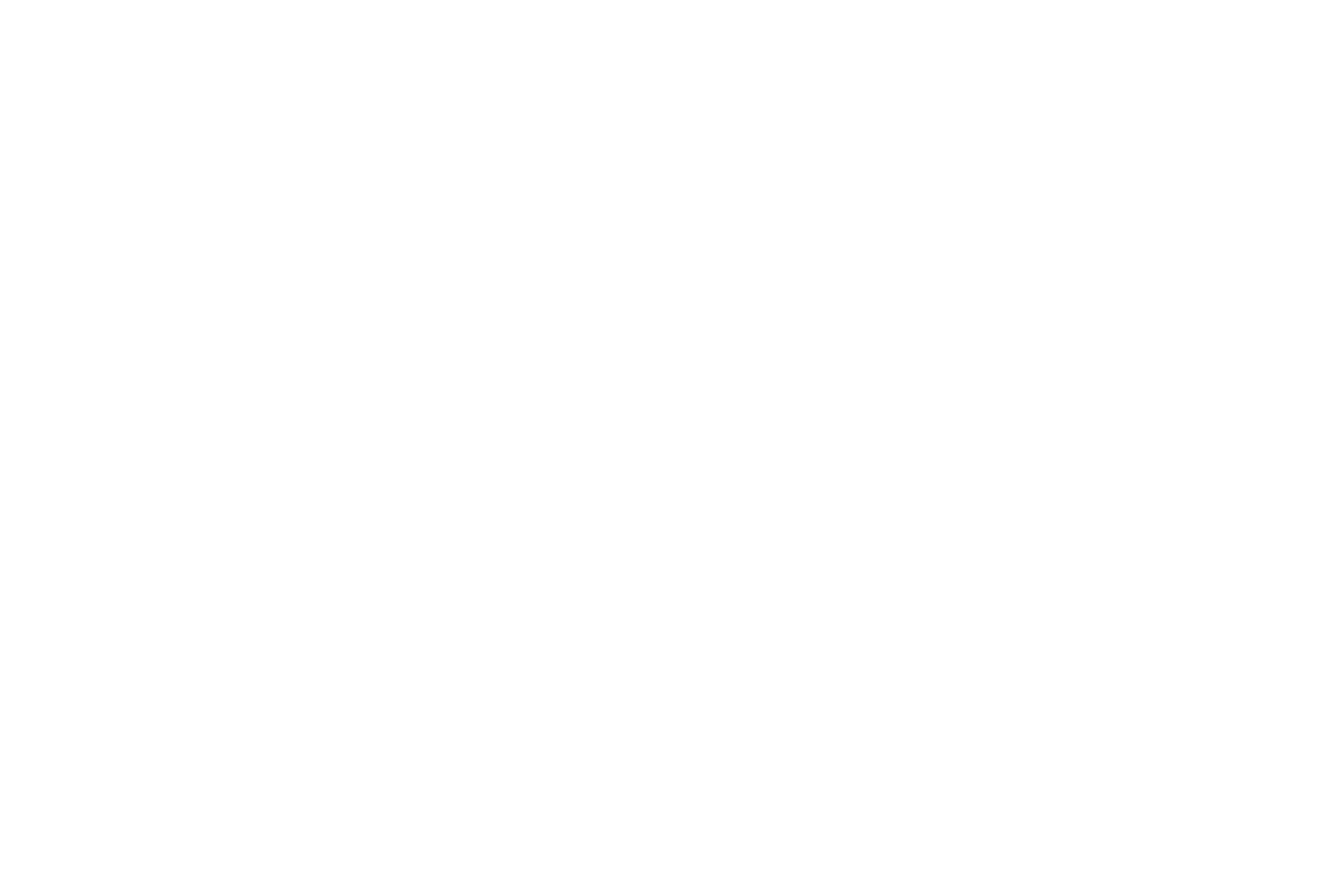
А какой была Ваша первая разработка в карьере ученого?
Это был метод стимуляции роста кровеносных сосудов с помощью генной терапии — тема моей диссертации. В итоге мы пытаемся развивать эту тему сейчас и стремимся создавать лекарственный препарат на данной основе. У генной терапии, в отличие от клеточной, есть достаточно хорошие отработанные и понятные алгоритмы выхода от разработки через доклинику (доклинические исследования — прим. ред.) в клинику.
Чем Вы занимаетесь сейчас?
Мы занимаемся разработкой новых подходов к генной и клеточной терапии, разрабатываем несколько препаратов. Для нас остается главным вопрос: как работает генная и клеточная терапия. Понимая общие принципы работы этих методов, мы можем увеличить эффективность и предвидеть риски.
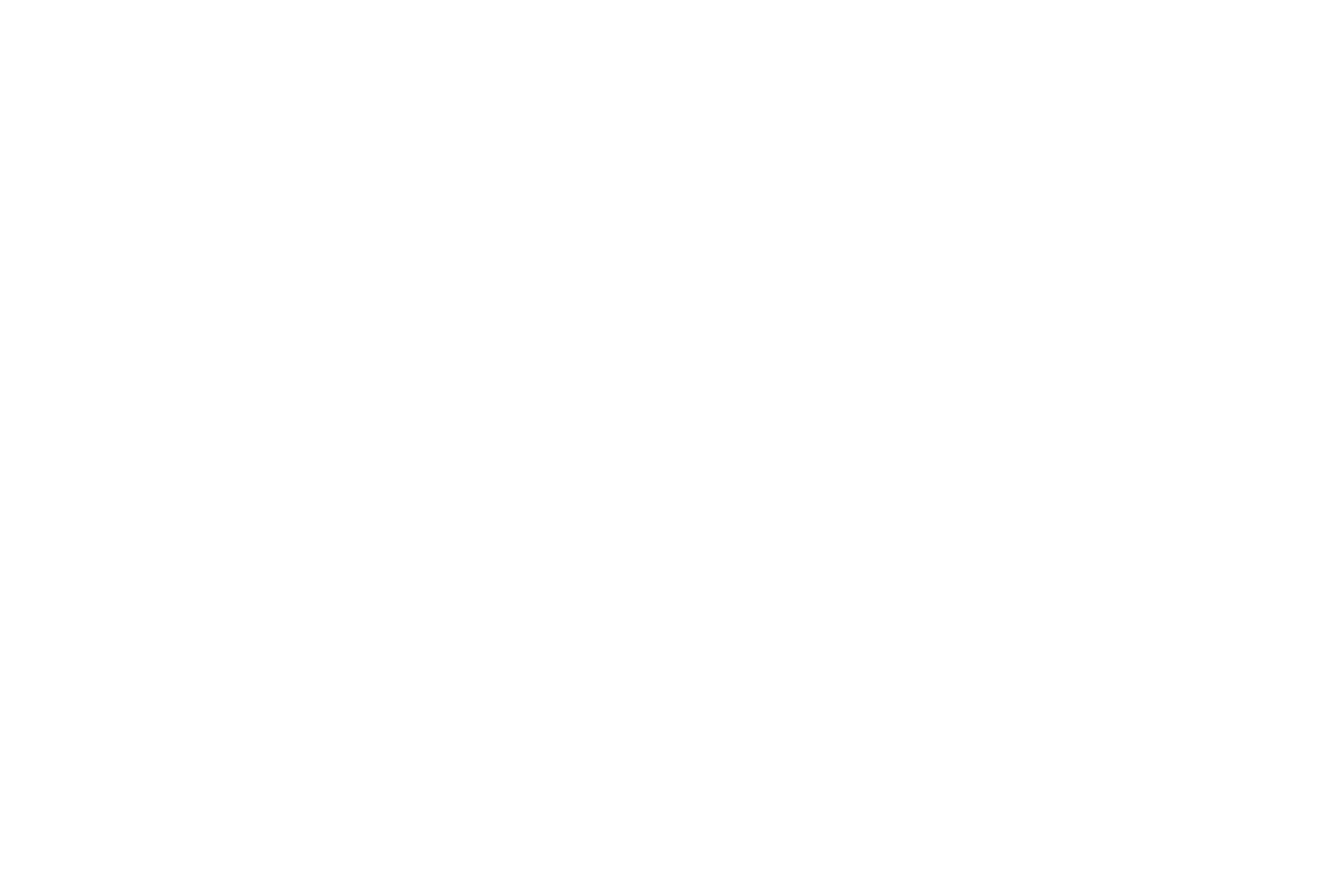
Работа ученого: «либо фокус, либо чудо»
Что, по Вашему мнению, способствует успехам, открытиям в науке?
Бывает, смотришь на то, что у человека получилось в науке, и со стороны это выглядит так: либо фокус, либо чудо.
На самом деле прорывы происходят в трех случаях:
1) Хороший метод. Придумал, как изучить то, что никто другой не придумал, как изучать. Например, микроскоп собрал.
2) Удачный объект. Например, когда был выяснен феномен того, что у аксолотля регенерируют конечности — сразу появился объект изучения.
3) Чудо. Когда человек сам не может объяснить, как он до этого дошел — работа подсознания. Например, таблица приснилась или что-то в этом духе.
Что является самым важным в работе ученого?
Для ученого важно много читать и задавать правильные вопросы. От формулировки вопроса вытекает правильная задача, а из правильной задачи вытекают правильные способы достижения.
Иногда нужно задавать вопрос месяц, но лучше долго задавать один вопрос и оттачивать его, чем задавать много неполных. Нужно, чтобы вопрос стал немного личным для тебя, тогда и появляется интерес. Со мной это работает по-разному: не каждый же день получается задать правильный вопрос. Иногда фундаментальная работа может буксовать месяцами — просто головой об стену бьешься и ничего не получается, результаты экспериментов ни о чем не говорят.
А бывает такое, что хочется все бросить?
Конечно, это святое дело, как без этого. Это сигналы организма и разума, но это же не порог. В тупиковых ситуациях надо бросать проект. Если вошел окончательно в ступор, то дальше нет смысла мучить себя и тех, кто с тобой работает. Нужно собрать всех и честно сказать: «Ребят, есть ли у нас хоть одна идея, как можно из этого выбраться?» Если нет, то надо думать, как красиво выйти из этой ситуации.
От этого могут быть серьезные убытки?
А с точки зрения бухгалтерии мы постоянно в убытке: получаем гранты – тратим. Тут история про всегда пустой кувшин, который наполняется и сразу выпивается.
«Все начинается с идеи»
Достаточно ли государство выделяет средств на научную деятельность?
Ни один ученый в мире не скажет, достаточно ли выделяют денег. В науке не может быть насыщения деньгами. Грубо говоря, например, нам выделили двадцать пять тысяч долларов, и мы на эти деньги сделали прибор, который позволяет ответить на фундаментальный вопрос природы, а кому-то выделили триста миллионов долларов, и он пятнадцать лет занимается вопросами, к примеру, канцерогенеза (процесс образования опухоли, происходящий под длительным воздействием химических веществ — прим. ред.), но никуда не продвинулся. Все деньги потрачены, все честно, строго по назначению, но работа заканчивается очень скромным прогрессом или вообще без него. Скорее, государство решает вопросы формирования и удержания в науке людей.
Сказать «достаточно ли государство выделяет денег» — сложно. Но когда я пришел в лабораторию в первый раз, способов получить деньги на научные интересы было меньше. Конечно, моя задача, как научного руководителя, думать, где найти деньги на науку. Но приоритетно помнить, зачем мы здесь вообще все собрались — в первую очередь надо думать о научных задачах.
Принято считать, что обычно у ученого появляется какая-то определенная идея, и он просит выделить денег на ее исследование. Притом идея может быть разной: даже, например, поиск доказательств существования инопланетян. Действительно ли так это работает, все начинается с идеи?
Да, действительно все начинается с идеи. Но под ней должна быть определенная философия, экспериментальная проверка, хотя бы мыслительный эксперимент. Я должен предложить какую-либо модель, основанную на базовых принципах познания мира. Гипотеза может быть самой сумасшедшей, но методы ее проверки не изменились со временем классической философии науки. И вот эти подходы ложатся в основу грантовой заявки.
Есть что-то для денег, а есть для души. Это как Пабло Пикассо, который для заработка писал классические работы, а для души погружался в кубизм. В науке есть многое от искусства, даже от шоу-бизнеса, потому что нужно доказывать, что именно мне нужны самые лучшие условия, зал побольше, рояль дорогой и оркестр посыграннее. В грантовой заявке все обязательно расписывают свои публикации, интервью, задел, награды, даже публикации в СМИ — для науки этого тоже имеет вес. И от идеи до финансирования есть вполне четкий путь, который надо раз за разом проходить. Ну или иметь своим средства, как многие великие ученые XVIII-XIX веков.
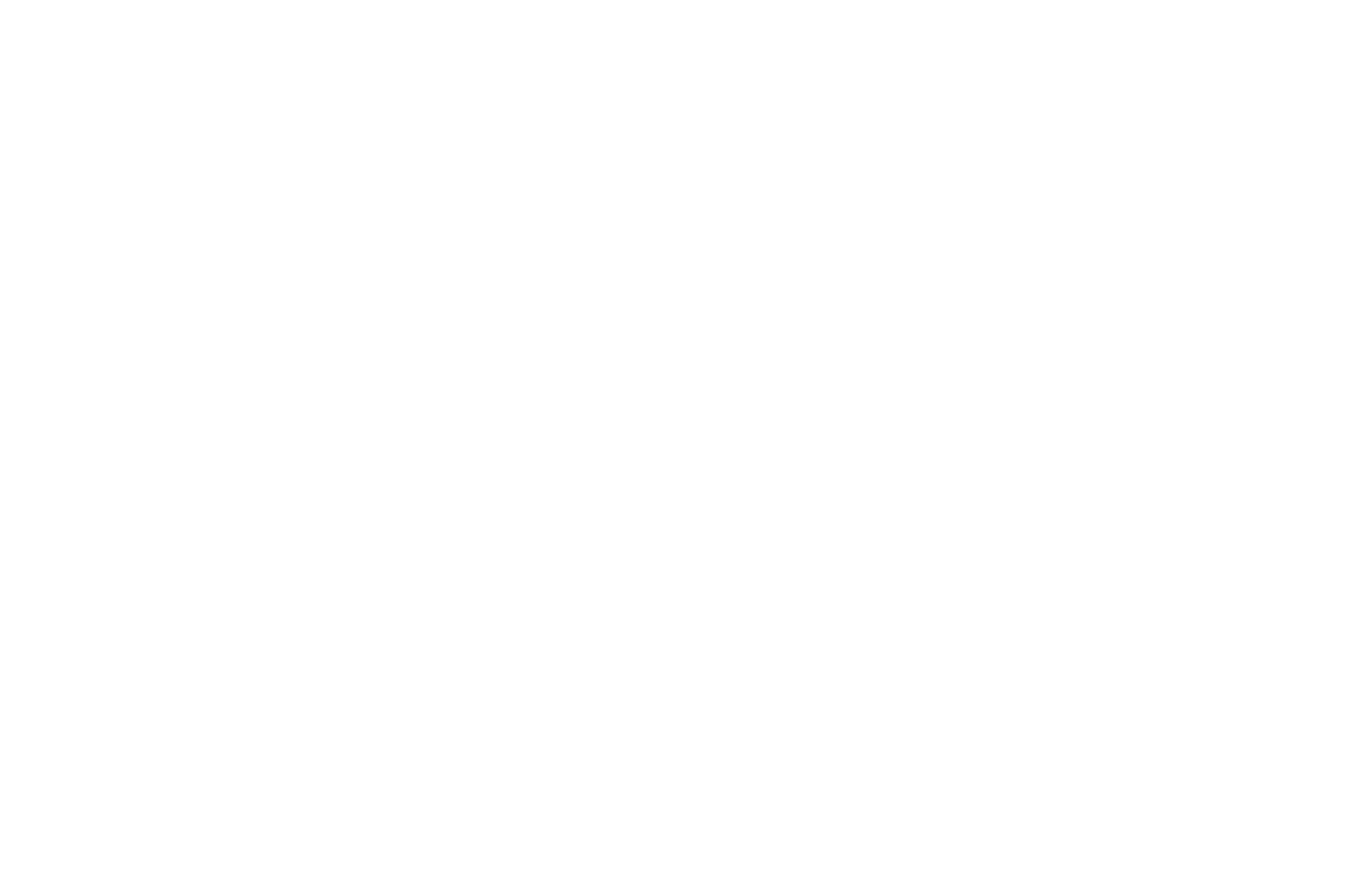
«Изолироваться, закрываться в кабинете, убирать телефон, писать руками»
Какие основные проблемы в науке Вы можете выделить?
Во-первых, это ускорение темпа жизни, суета. А наука требует выключения человека из не относящейся к задаче беготни. Спам, почта, мессенджеры, звонки абсолютно дезинтегрируют ход научной мысли. Научная мысль должна идти логическим путем, а логика требует иногда зависаний на одной мысли. В общем, нынешний темп жизни противоречит интеллектуальной работе. Жизнь идет и развивается слишком быстро.
Поэтому приходится изолироваться, закрываться в кабинете, убирать телефон, писать руками. И это не способ выделиться, я очень много пишу от руки — это часть процесса, а еще записывать – это способ запомнить мысль, а если забудешь, то на бумаге все есть. Если вам нужно поправить текст так, чтобы уже после первой правки он был почти предфинальным, то это нужно делать на бумаге руками.
Во-вторых, наука стала похожа на индустрию. Раньше науку делали, мягко говоря, небедные люди, у них было время сесть и подумать. А после Второй мировой войны и научно-технической революции стало понятно, что ученым можно ставить задачи, приоритеты, что из научной мысли идут достижения цивилизации, нужные и для войны, и для мира. И тут количество ученых невероятно скакнуло вверх. Пришлось кормить всех, в том числе тех, кто не способен ничего сделать в науке. Статус ученого снизился. Мне это жить не мешает, но в целом из-за всех этих скандалов, фальсификаций у тех, кто мог бы что-то сделать, остается меньше ресурсов.
Это модель, в которой есть мешок риса и бесконечное количество мышей — мешок риса надо поделить на бесконечность. И здесь нужно либо мышей сокращать, либо увеличивать количество риса. Под рисом я понимаю все: деньги, социальную защищенность, время, возможность уехать на месяц в глухомань писать диссертацию.
В-третьих, внутри самой науки приходится разрываться между фундаментальной задачей. Например, я хочу изучить или открыть новый вид насекомых. А зачем? Какую проблему мы решим для человечества? И в этот момент я должен сказать, что, возможно, это будет жук, который истребляет другого жука-паразита, который уничтожает пшеницу, и из-за этого голодает половина населения Земли. В беседе с теми, кто оценивает мою работу, я должен говорить, что это позволит решить такую-то проблему. То есть иногда приходится казаться, но не быть. Поэтому не хочется проснуться с осознанием, что ты забыл, чего на самом деле хотел, но ты активно все еще за этим гонишься из-за укоренившейся привычки.
Возможно, это не самая большая проблема, а просто понимание того, что для получения денег на исследование моего личного вопроса я должен соблюдать некие правила игры, а это человеку всегда немного претит.
Я знаю пару людей, которые начинали с горящими глазами, но потом все поменялось. Уже научные интересы определяются «тем, на что дают деньги», а не «как сделать так, чтобы то, что мне интересно, стало похоже на то, на что дают деньги».
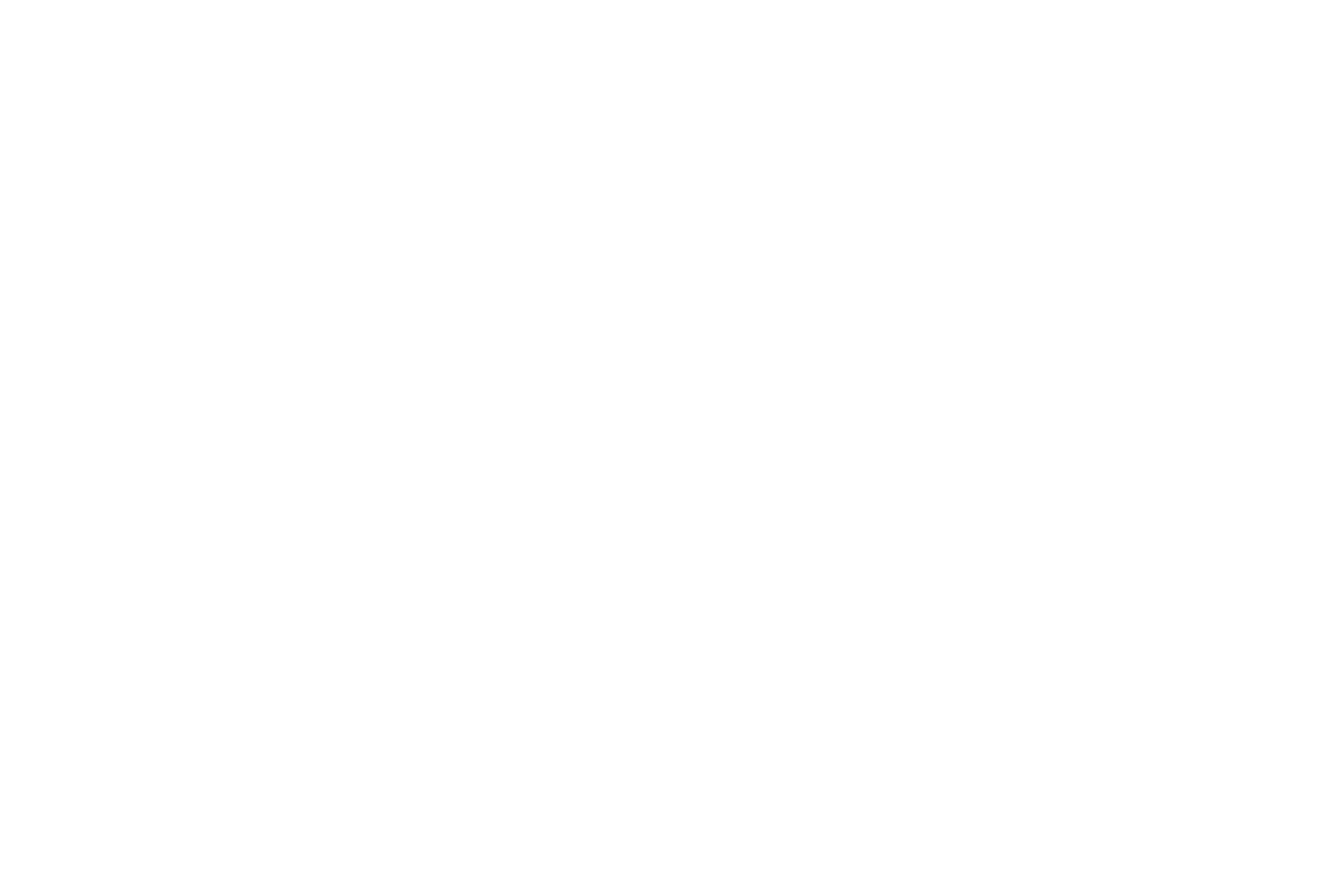
«Если не вкачиваешь ресурс в семью, то семья перестает давать ресурс на работу»
Ваша деятельность позволяет проводить достаточное количество времени с семьей, или приходится чем-то жертвовать?
Да. Это не вопрос выбора. Я слепил свой быт таким образом, чтобы проводить достаточное количество времени с семьей. Есть работа, дом, работа, семья, дом — на большее времени не хватает. Если не вкачиваешь ресурс в семью, то семья перестает давать ресурс на работу. В какой-то момент может все развалиться.
А вы прививаете интерес к науке своему сыну?
Нет. Вообще ребенка не надо особенно воспитывать. Надо запрещать ему делать то, что опасно для него и окружающих, и самому себя вести, как нормальный человек – тогда он все скопирует и будет нормальным.
Моему сыну сейчас два года, он познает мир. Обязательно в будущем обозначу возможность заниматься наукой, готовность подсказать, как развивать карьеру, но если ему это будет совсем не интересно, то ломать и заталкивать в науку нет никакого смысла, ведь главное — чтобы нравилось.
Нужно ли вообще молодому поколению развивать критическое мышление, научный подход к жизни?
Да, это никогда не потеряет актуальность и никогда не будет лишним. Сейчас много самых разных областей, и люди будут все более и более сосредоточены на своей специальности — энциклопедистов почти нет. Но критическое мышление все же необходимо развивать: хоть чуть-чуть подвергать сомнению свои решения, выборы, анализировать и рефлексировать. При этом в конечном счете важнее развивать эмоциональную составляющую, чтобы человек понимал, хочет он этого или нет. У нас же исторически система такая: вот надо, значит, надо — не ищи объяснения. Но очень важно, чтобы человек задавал себе вопрос: хочу я этого или нет? По крайней мере, будучи честным с собой в этом, потом не придется ругать самого себя за прожитые годы.
Аспирантка факультета фундаментальной медицины Мария Кулебякина также рассказала об особенностях деятельности молодого ученого.
Марина Бенедиктова
Елизавета Стрига


